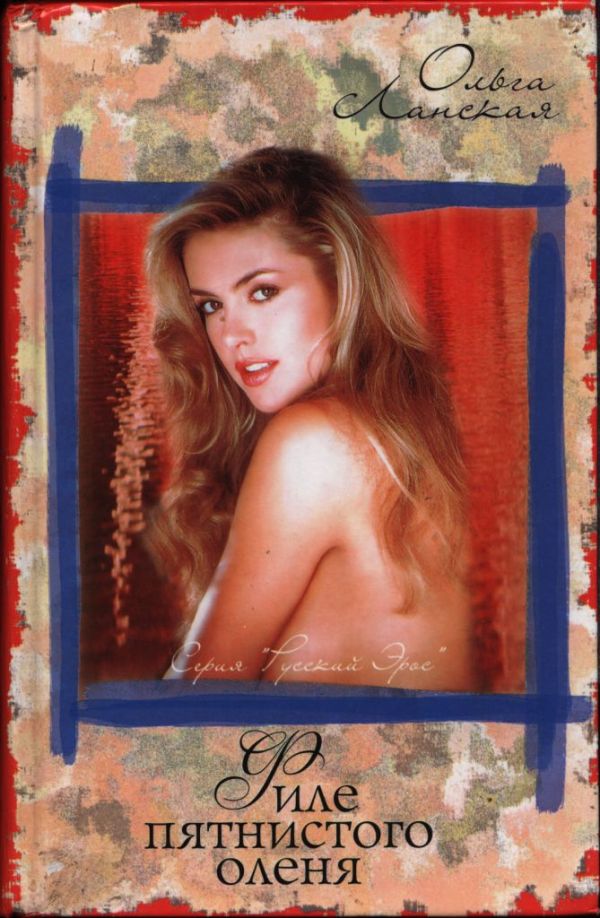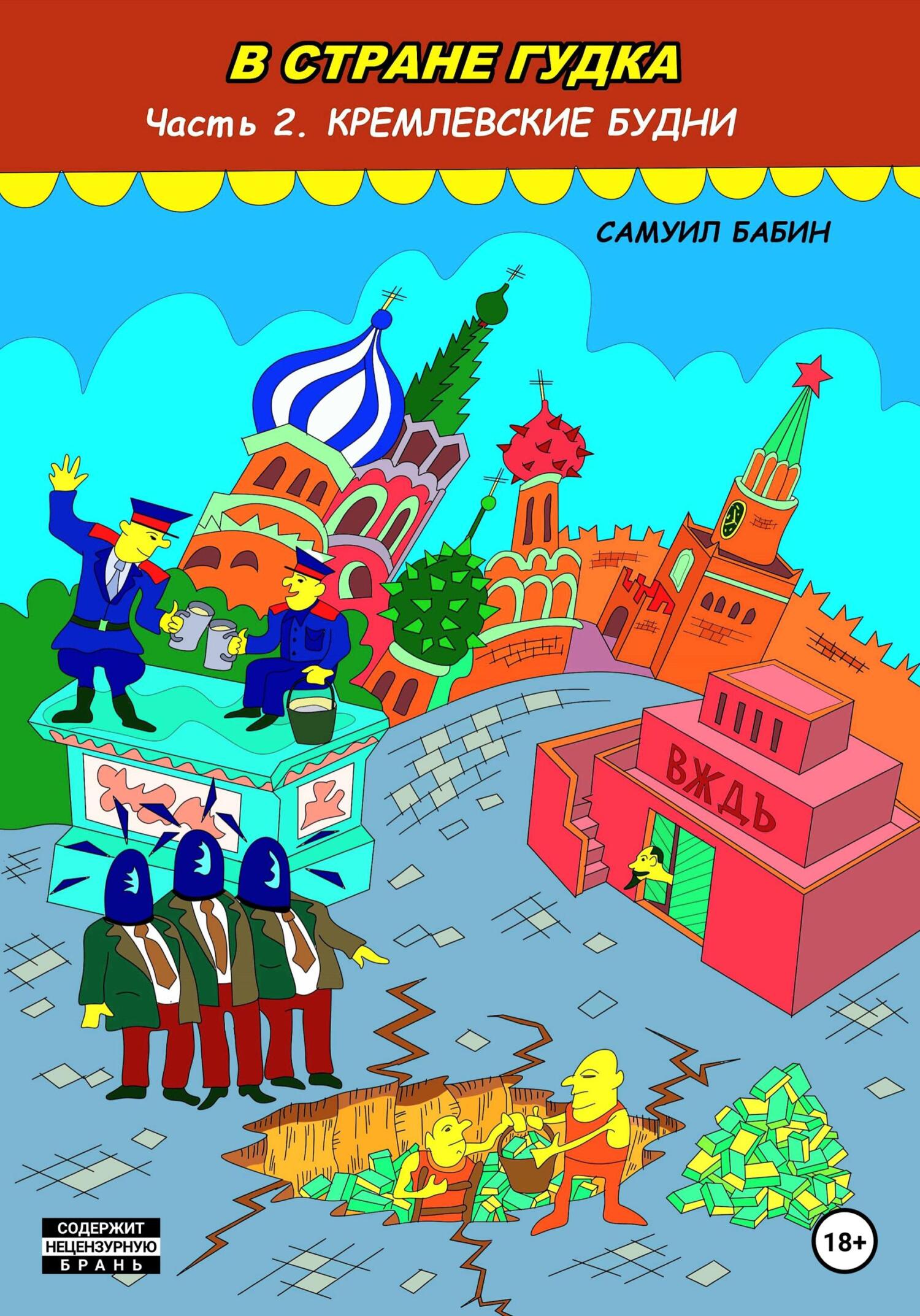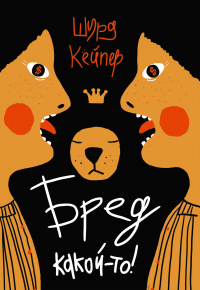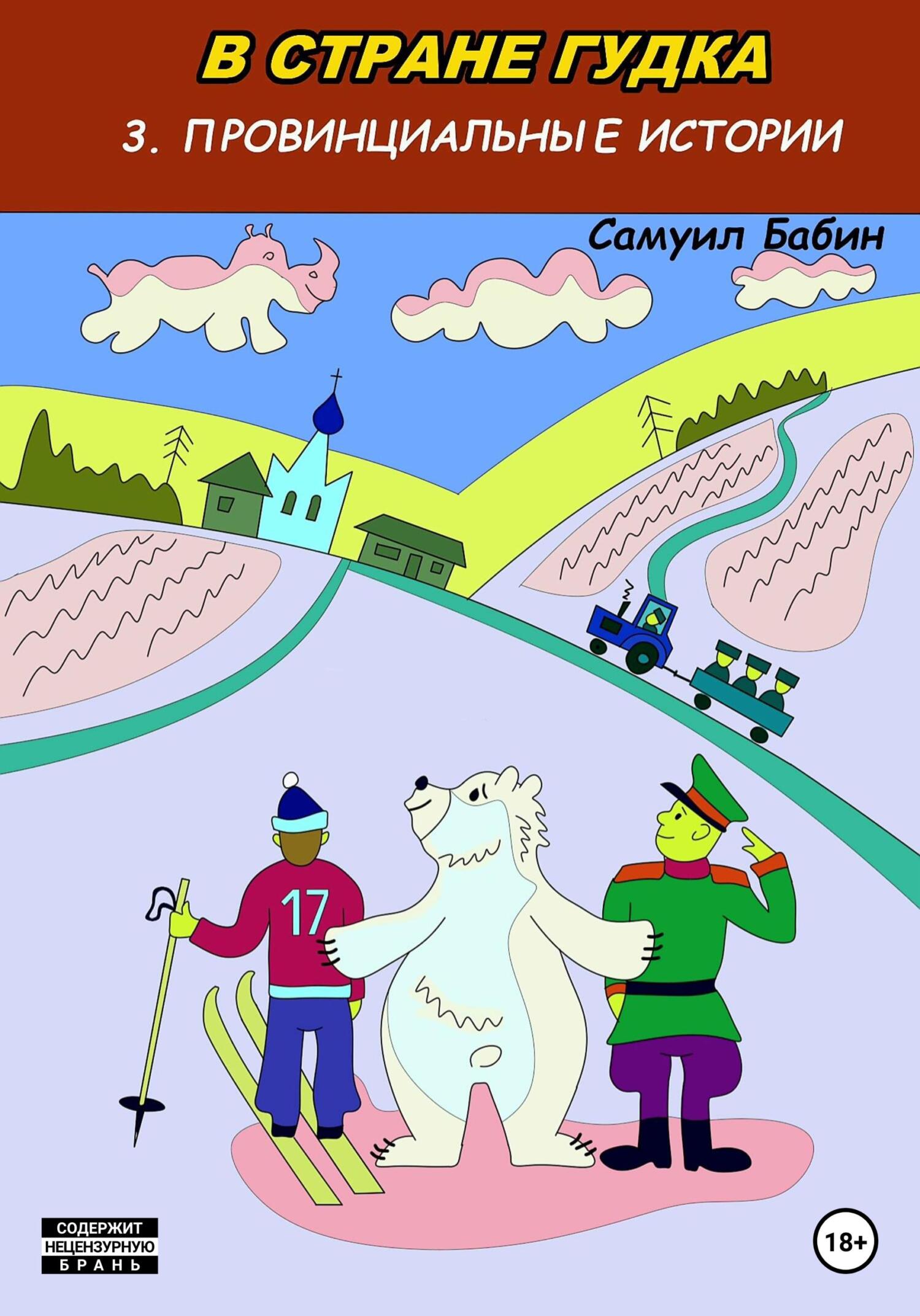Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Красавица в норковом манто и наряде «от кутюр»… Холеная новорусская жена? О нет! Отчаянная искательница приключений, вся жизнь которой — погоня за острыми ощущениями и чувственными наслаждениями! Мужчины для нее — всего лишь случайные партнеры, способные доставить женщине минутное блаженство… Прошлое — череда пикантных эпизодов… Будущее сулит лишь НОВЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ!..
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ольга Ланская»: