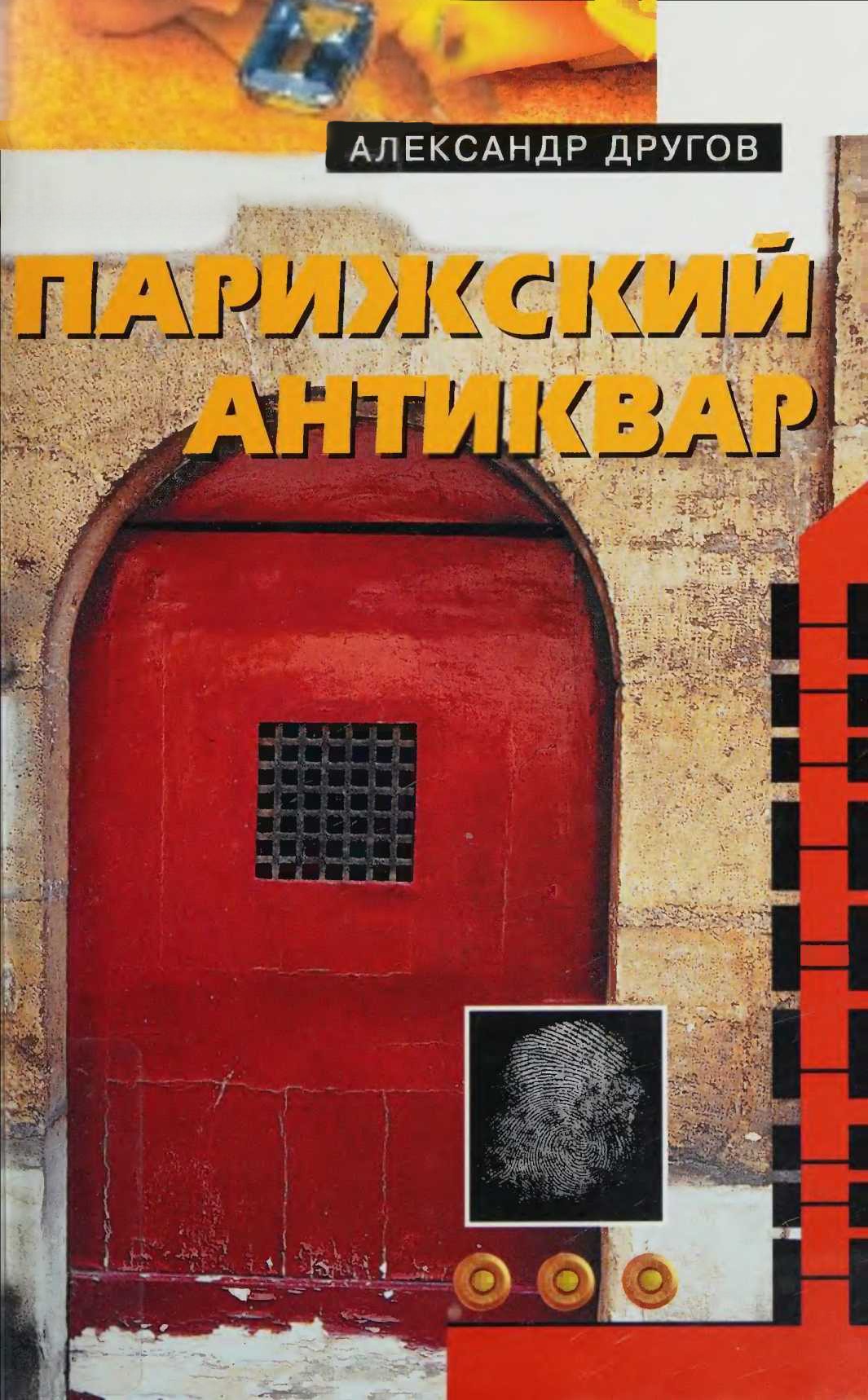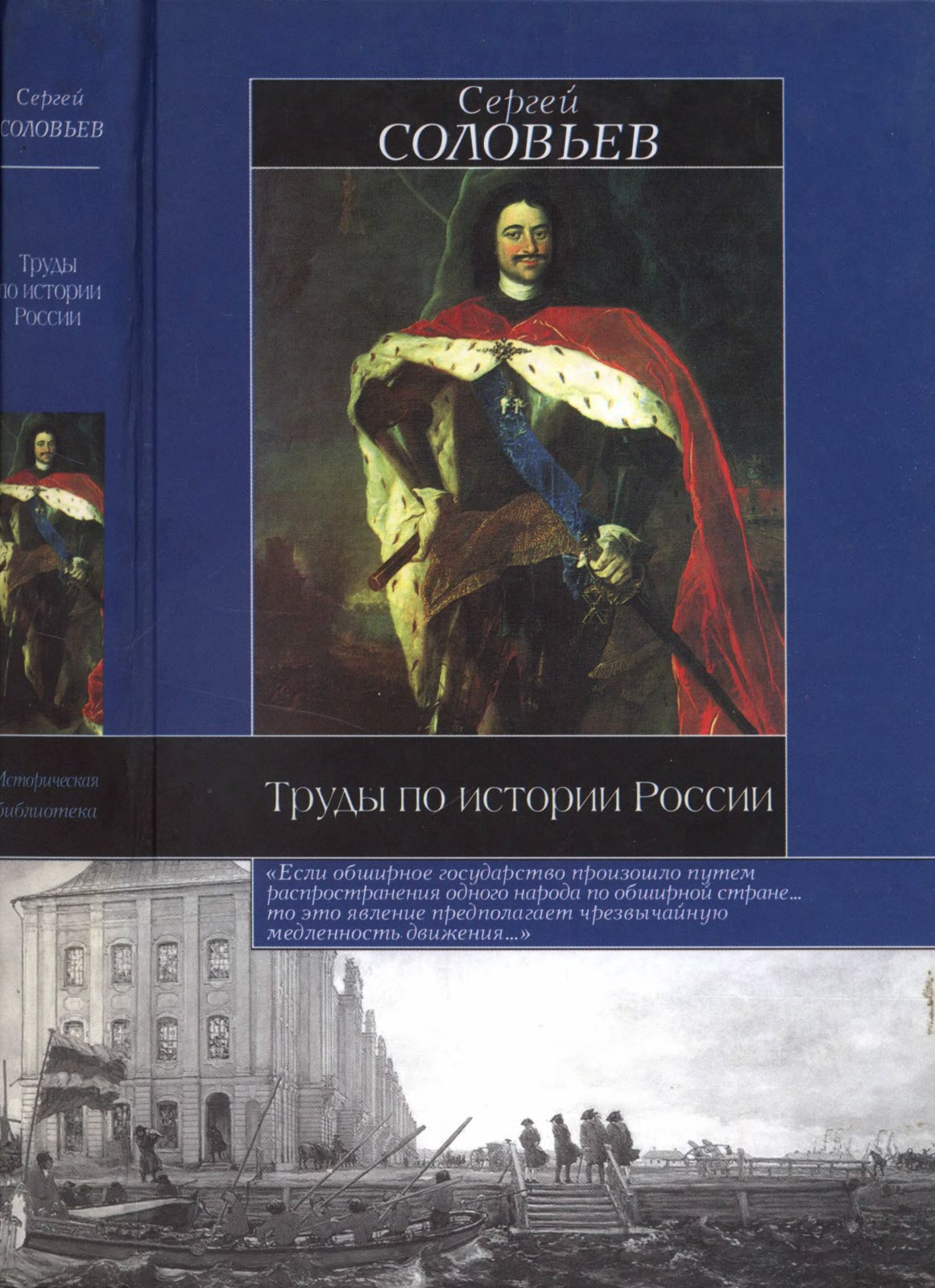Шрифт:
Закладка:
Сорокалетний собиратель старины не так прост и скучен, как выглядит. Он причастен к преступлению, и чем тщательнее пытается скрыть эту связь, тем больше внутренних демонов его одолевает. Антиквар томится бессонницей, вспоминает молодость и борется с самим собой: в его личной истории есть довольно сумрачные страницы, в лучших традициях Достоевского, Гофмана, По и Набокова.Тонкий стилист, Олег Постнов выплетает свои литературоцентричные истории как старинное кружево: в них есть и эстетство, и неочевидные цитаты, и запретные страсти, и мрачноватая ирония.Мое одиночество – мое вечное одиночество человека, который не в тягость самому себе, – захватило меня.Тонкий стилист, Олег Постнов выплетает свои литературоцентричные истории как старинное кружево: в нихесть и эстетство, и неочевидные цитаты, и запретные страсти, и мрачноватая ирония.Антиквар – всегда тот, кто продает герою его тайную страсть, диво ли, что она тотчас порабощает его! Куда значительней покупателя стал мне представляться сам продавец, всегда отстраненный, всегда оставляемый – невзначай – в тени. Между тем именно его усильями были собраны все те причудливые творения безвестных рук, ума, интуиции, которые овладевали в некий миг платежеспособным вертопрахом, но – и это снова всегда в тени! – были бессильны пред их продавцом, посредником, временным держателем, хотя тот тоже ведь некогда получил их в руки, постиг своим умом или выбрал меж прочими силою прозренья! А много ли знали его случайные жертвы о тех вещах, которых он им не предлагал? Уж не там ли, не в этом ли противостоянии вещей и умеющего их ценить, понимать, обращаться с ними человека, крылся секрет профессии, мастерство и любовь постигателя тайн?