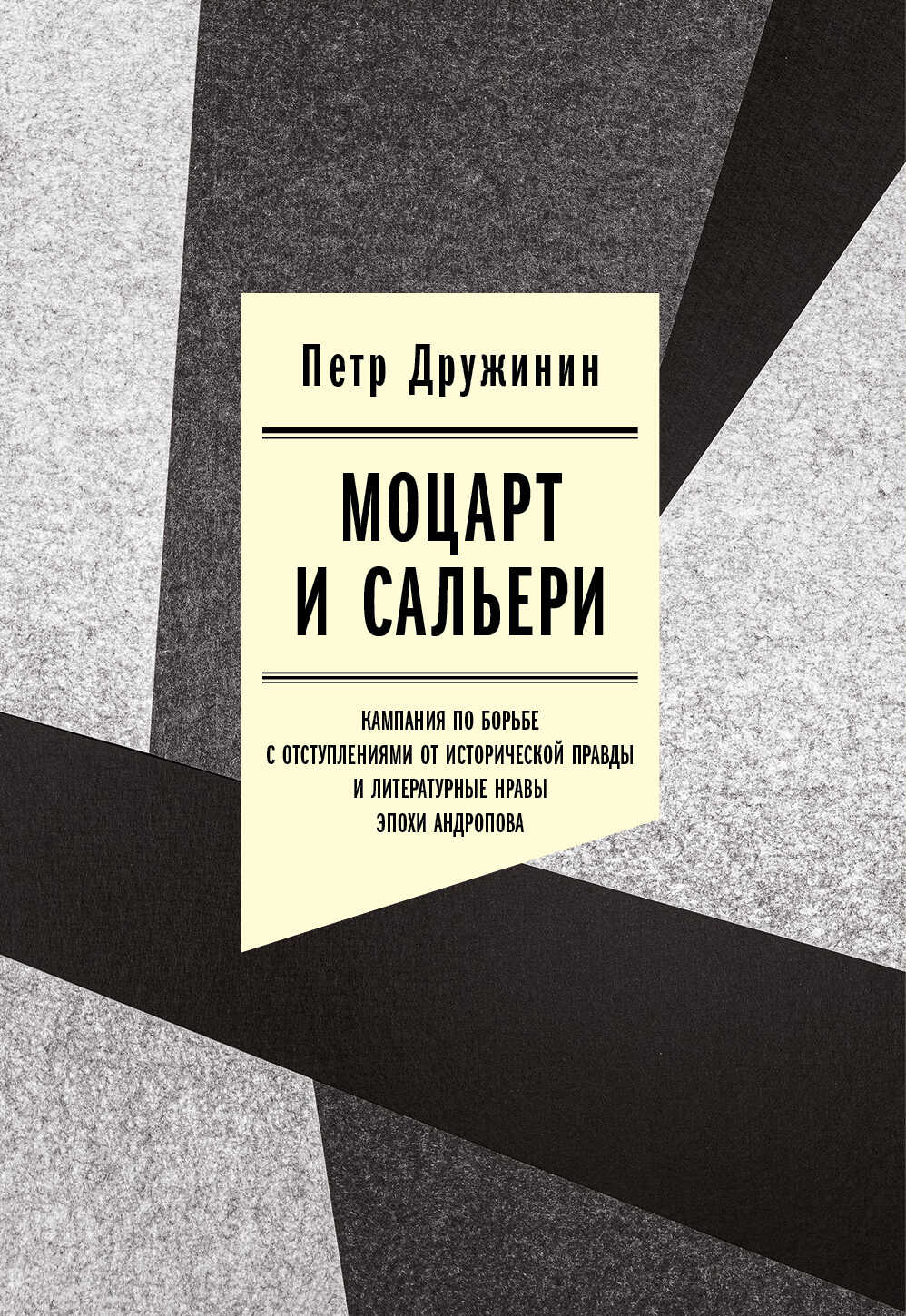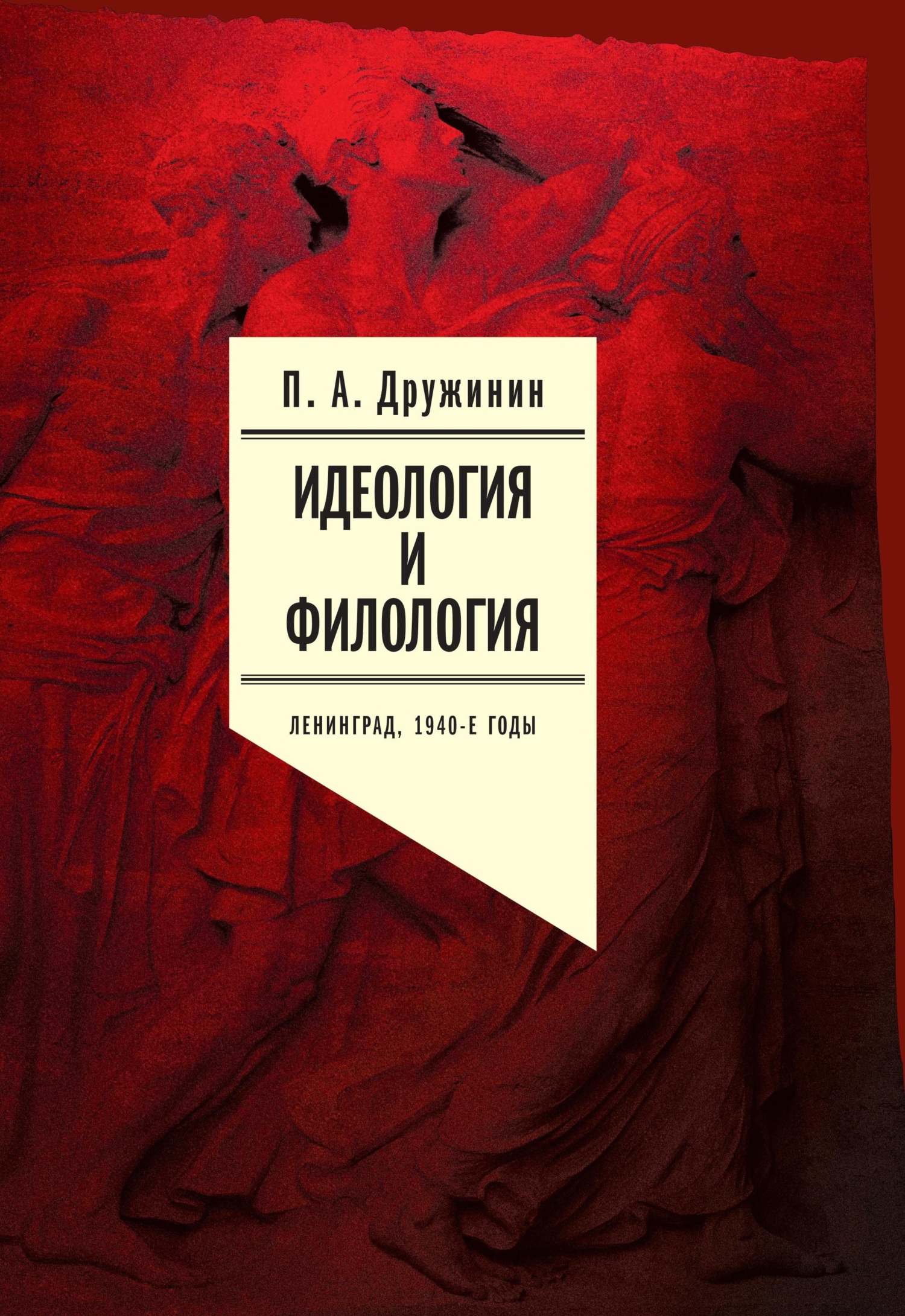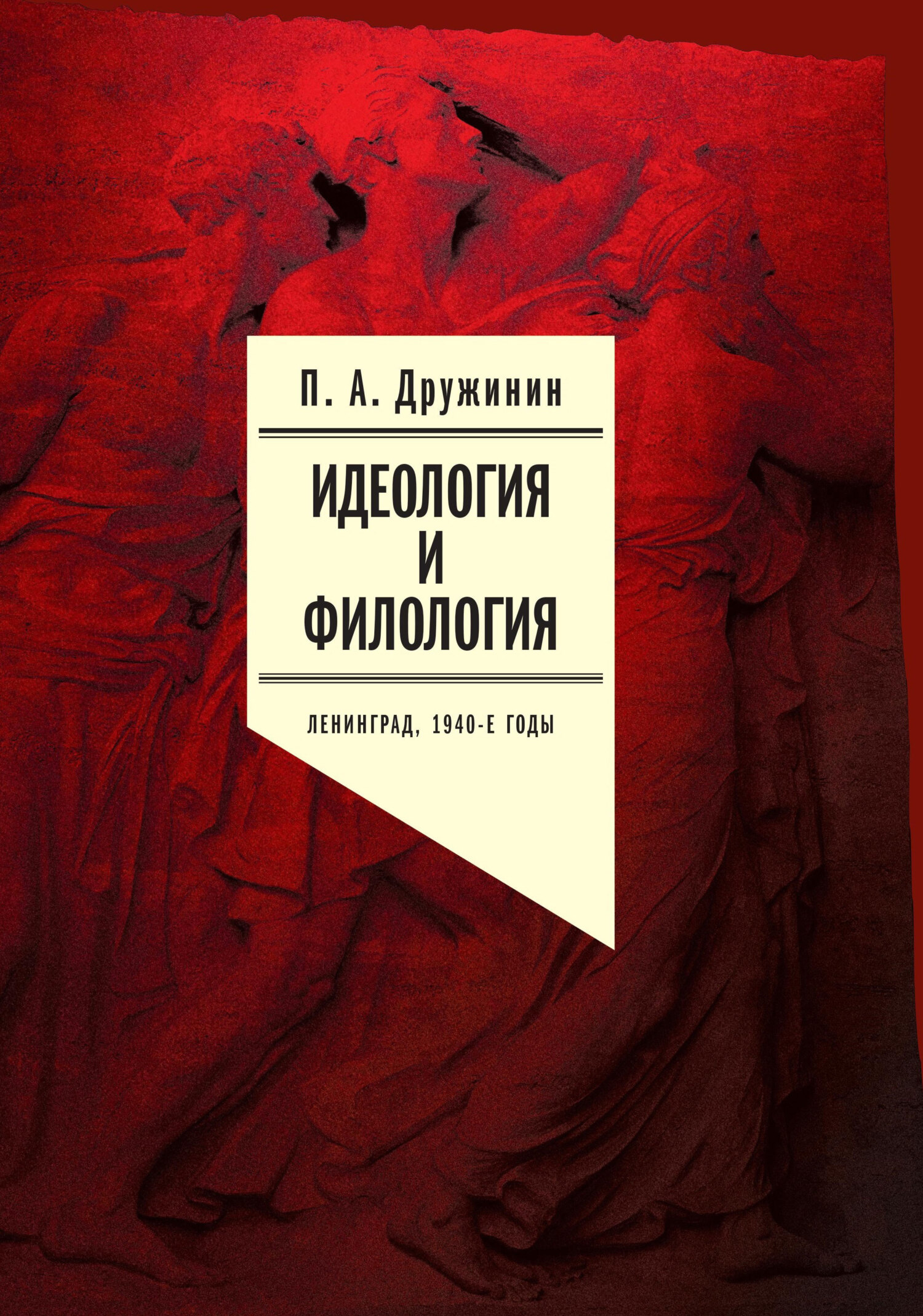Шрифт:
Закладка:
Эпоха Андропова была краткой и запоминающейся, однако мало кто знает о развернутой тогда идеологической кампании по борьбе с отступлениями от исторической правды. Петр Дружинин, известный специалист по истории гуманитарной науки, старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, на основании как опубликованных, так и неизвестных архивных источников реконструирует эту идеологическую борьбу, выстраивая на первый взгляд несвязанные события в строгую последовательность. Читатель узнает, как разворачивался маховик идеологической проработки: сначала партийное решение, затем направляющие статьи в журналах и газетная брань с участием тех, кто согласился выступить на стороне государства; и, как результат, жертвы этой кампании – известные литераторы того времени. Совершенно неожиданно в центре кампании оказался поединок двух колоссальных фигур русской культуры: Натана Эйдельмана, знаменитого писателя и историка, и Ильи Зильберштейна, известного ученого и коллекционера. И даже далекие от идеологии люди встали в тот момент перед нравственным выбором: чью сторону им принять.