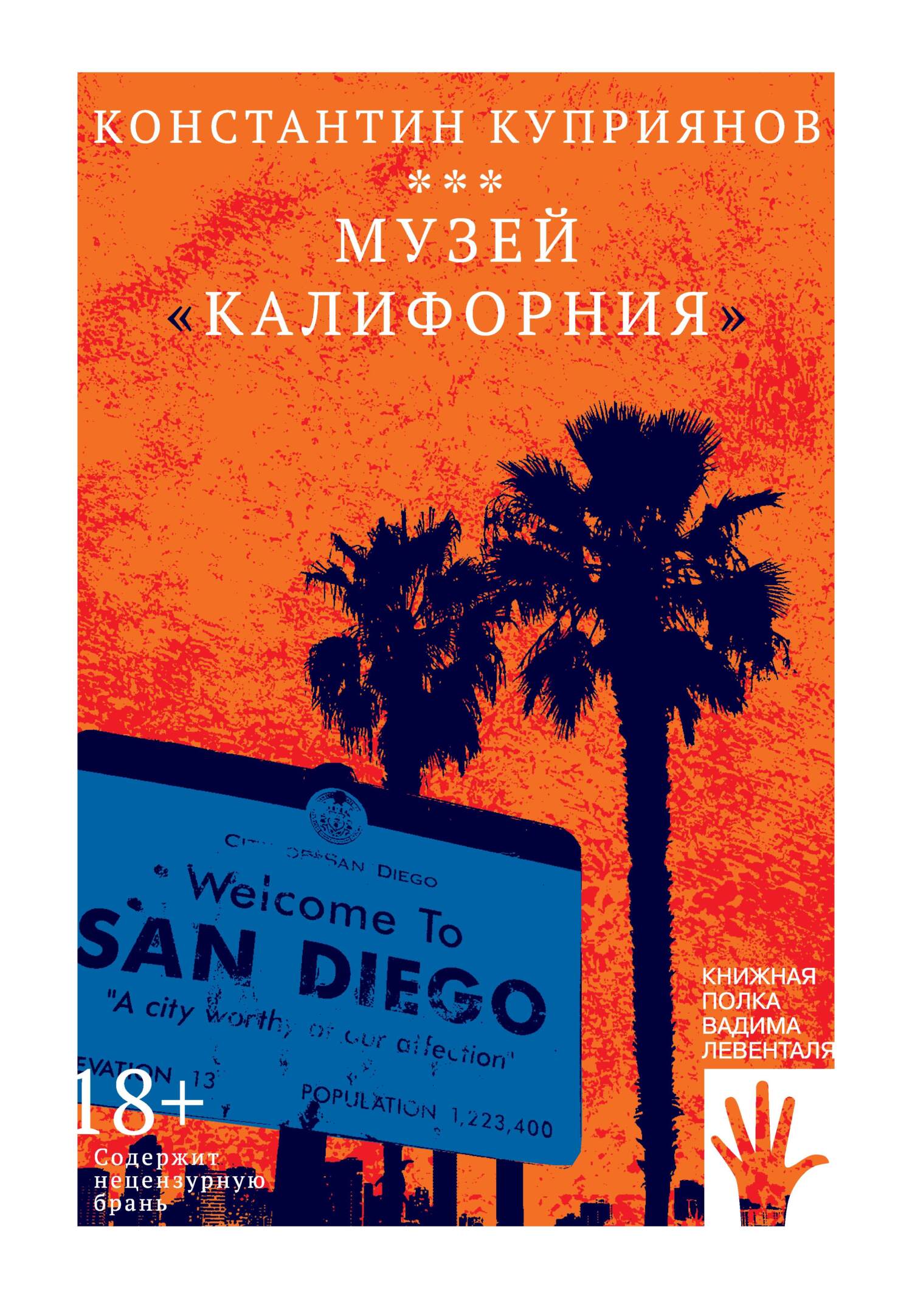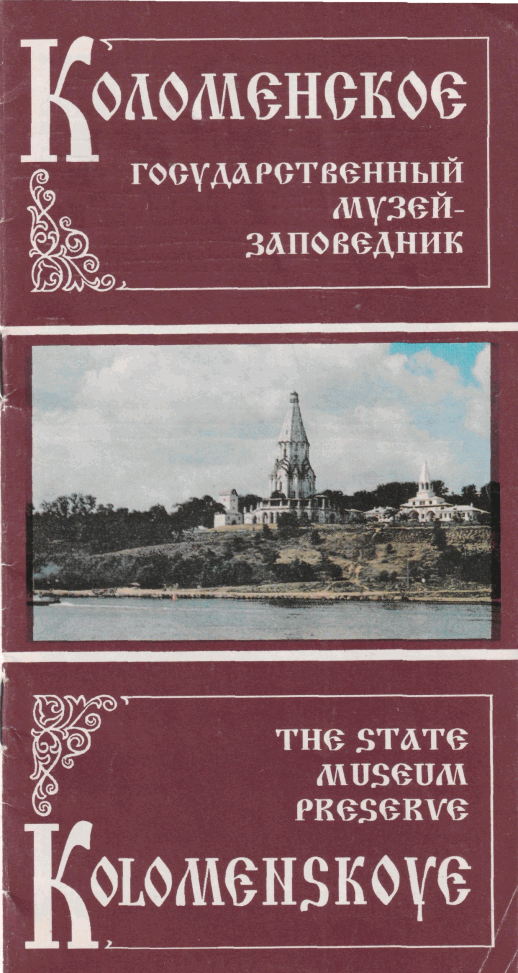Шрифт:
Закладка:
Владимир Васильевич Лебедев (1891–1967) известен прежде всего как основатель советской школы детской книги и «художник двадцатых годов». Действительно, благодаря незаурядным способностям наставника и чуткому пониманию книжной архитектуры он смог воспитать плеяду иллюстраторов и заложить фундамент, на котором еще многие десятилетия развивалась культура советской книги-картинки. Сам Лебедев создал десятки лучших образцов этого жанра, а в середине 1930-х годов пережил большой профессиональный слом, изменивший до неузнаваемости его графический язык. Искусствовед и писатель Всеволод Петров (1912–1978) начал работать над монографией о Лебедеве еще при жизни художника, часто бывая в его легендарной мастерской на улице Белинского. Но несмотря на неослабевающий во всём мире интерес к Лебедеву, эта книга по-прежнему остается единственным исследованием всего многообразия его творчества. Петров прослеживает, как творческий путь художника пролегает через живопись, станковую графику, плакат, не прерывается со сменой эпох — и прорастает через военные годы и реализм к зрелости непревзойденного мастера. В новое издание вошли редкие и ранее неопубликованные работы и снимки из собрания Государственного Русского музея и частных коллекций, автобиография художника и очерк об истории монографии Всеволода Петрова.