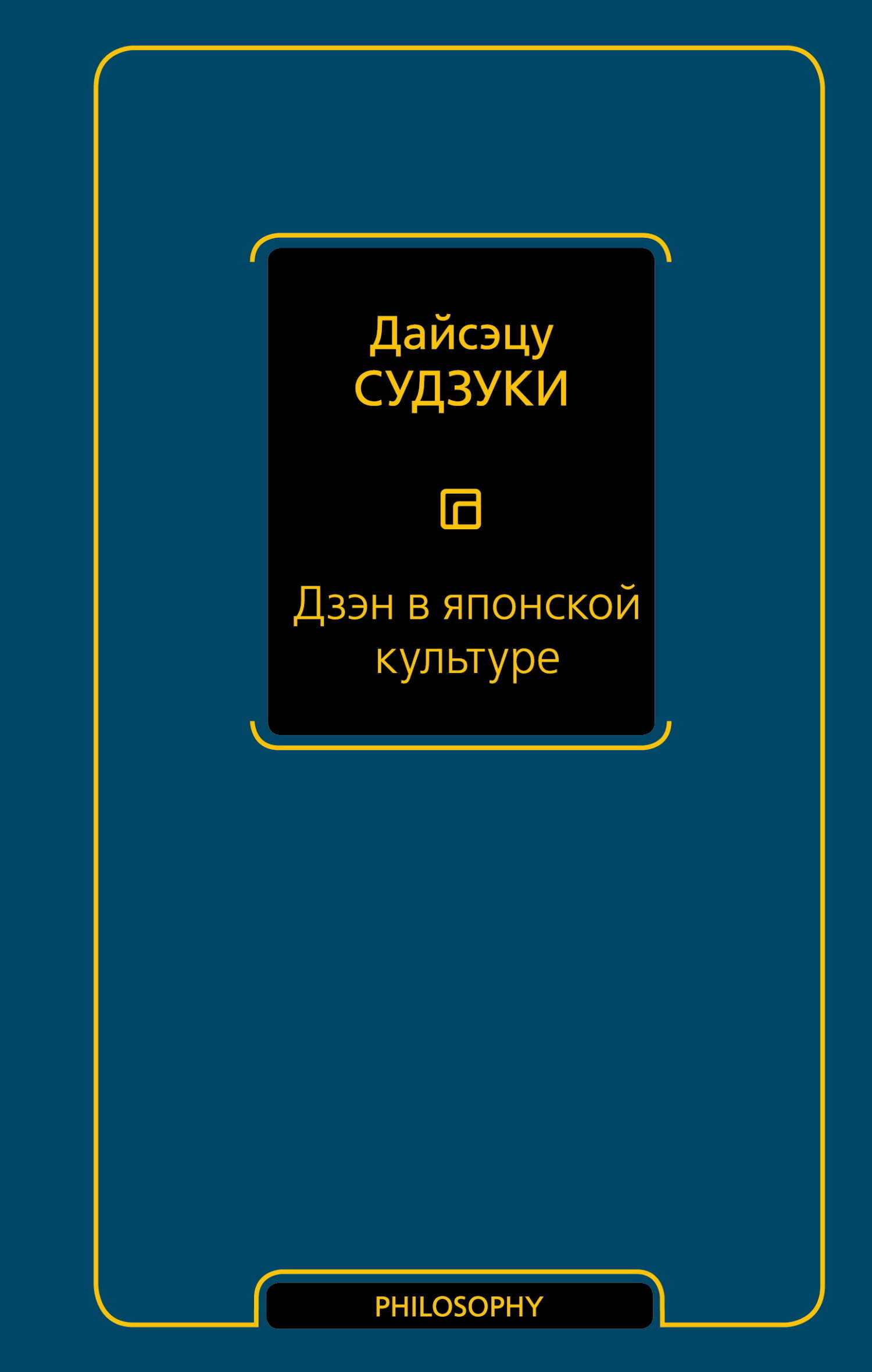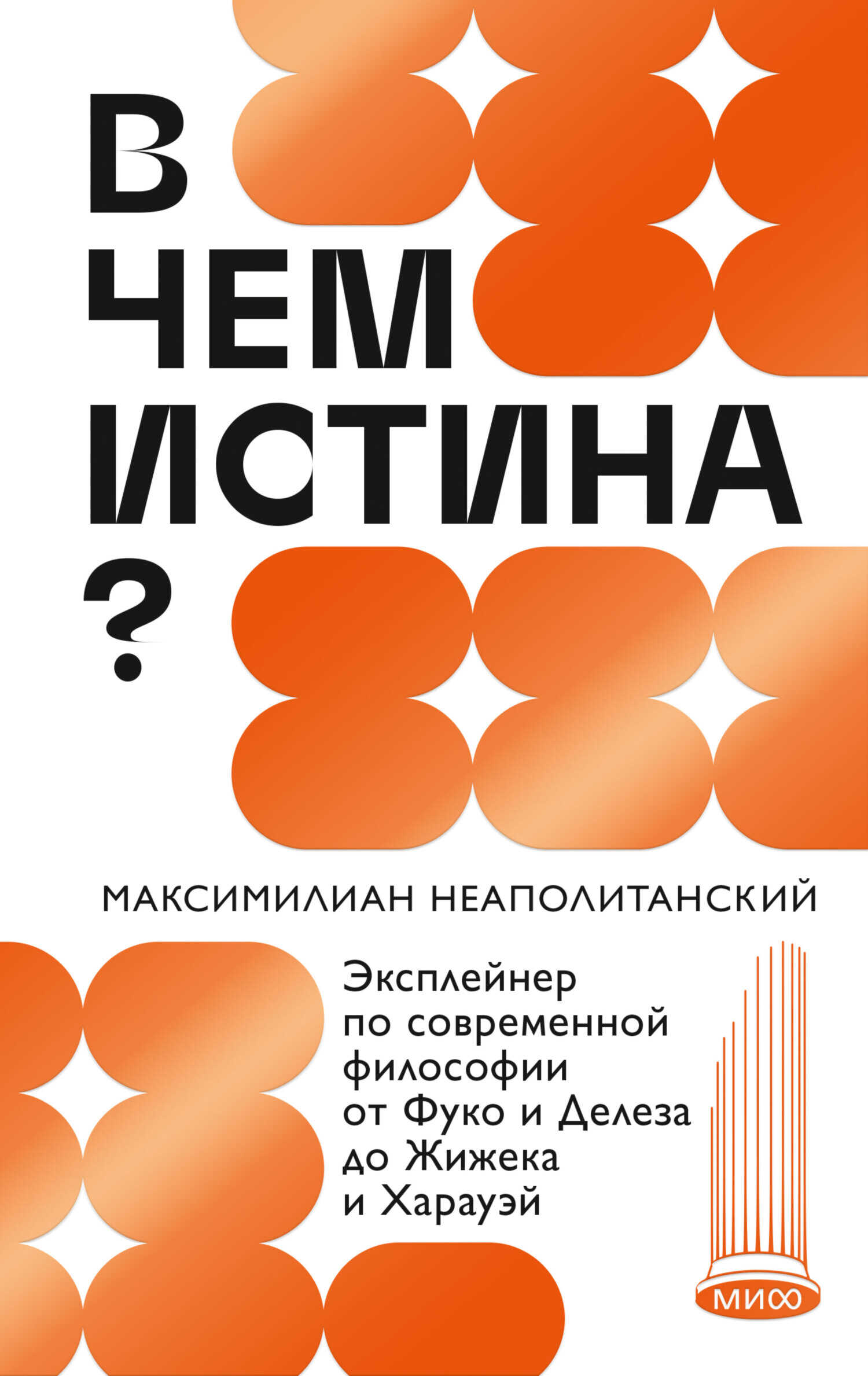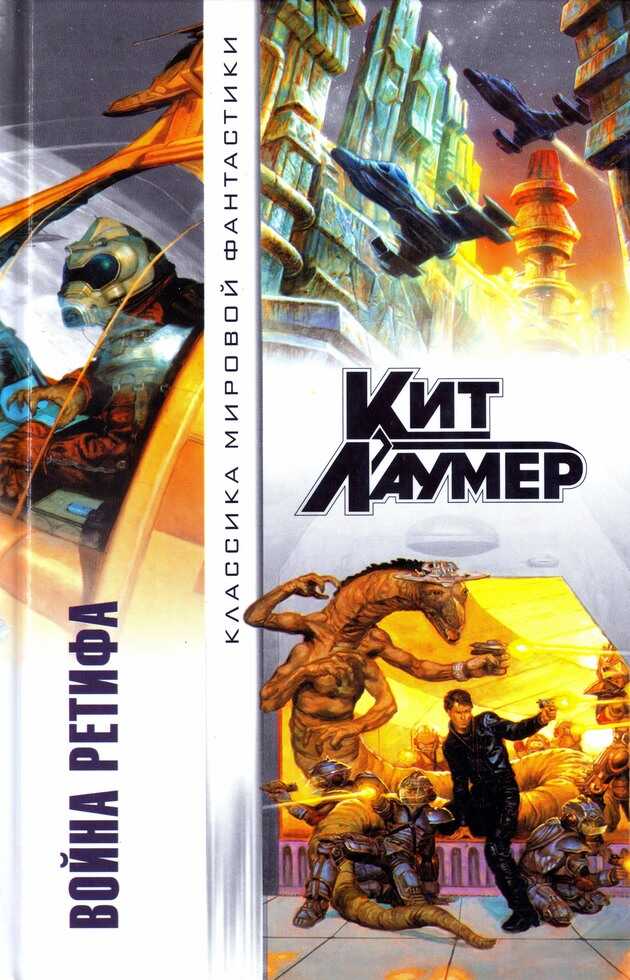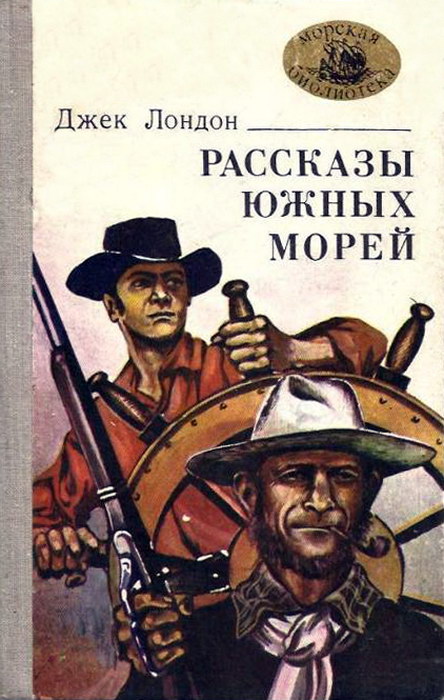Шрифт:
Закладка:
Японский буддолог и культуролог Дайсэцу Судзуки (1870—1966) – знаменитый популяризатор философии Дзэн-буддизма в Западном мире. Он долгое время жил в Европе и США, читал лекции в ведущих университетах Старого и Нового Света, публикуя один за другим фундаментальные труды, рассчитанные на восприятие западного читателя. Среди его работ, многие из которых переведены на русский язык, важнейшей и наиболее увлекательной, безусловно, является вышедшая в 1938 году, многократно переизданная во всех странах Запада культовая книга «Дзэн в японской культуре».Подробно объясняя, какое влияние философия Дзэн-буддизма оказала на различные аспекты японской культуры – от литературы, живописи и поэзии до икэбаны, чайной церемонии и самурайского кодекса чести Бусидо – Судзуки в своем повествовании дает квинтэссенцию традиционной японской этики и эстетики.Понять загадочную японскую душу и прочувствовать дух Дзэн поможет также антология дзэнской поэзии, ставшая приложением к российскому изданию.