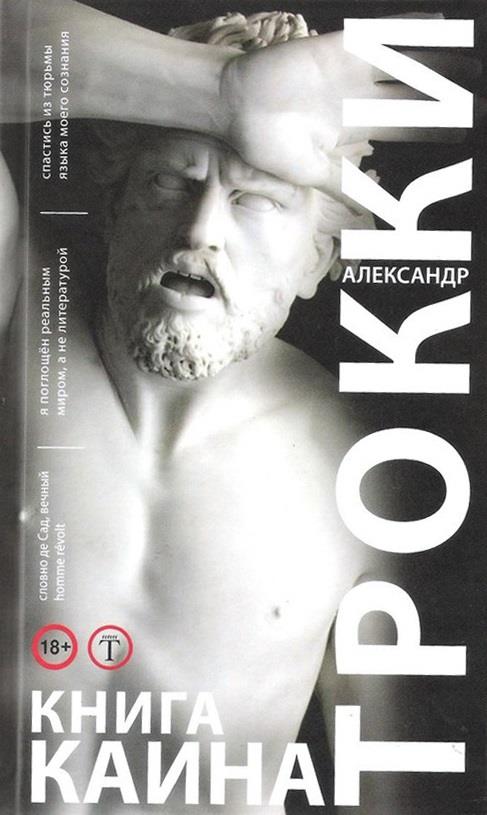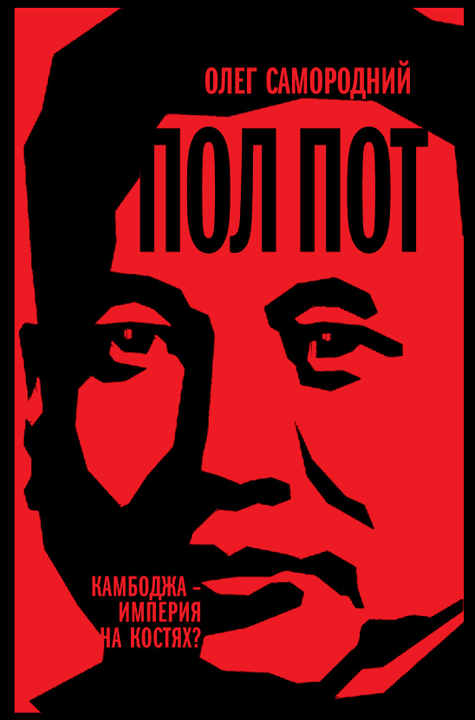Шрифт:
Закладка:
Черенкова была одержима чужой силой, как и все племя канатоходцев с горящими копчиками, содомизированных железным Лубянщиком.
И тут одним поздним вечером после последней институтской пары у проходной институтской вертушки он увидел за стеклом длинный вязаный колпачок с помпончиком. Эго дожидалась его Эвридика в зимних гольфах и короткой цитрусовой юбке. Было лунно, слякотно и чувствовалось лёгкое присутствие облетевшей розы с вялым камелиевым душком. Как бы ни загромождались тёмные, раздавленные розовые лепестки, москвичи опирались на них повсюду в городе. Лепестки простилали и опустевшее Садовое кольцо, где Э + Я = сели в троллейбус. Троллейбус становился всё более дряблым, будто ехал по перине. Было поздно. Под этой периной прервалась поездная строчка в пояске метро. Окраины, вместе с эвридикиным общежитием, набитым к ночи, канули в несусветность, где изредка мерцали поплавки ядовитого такси. Ян предложил пойти выпить чаю в его комнату в хычовой берлоге. Ночь одела Садовое кольцо на палец и выдавила его и её из одрябшего до разваливаемости троллейбуса в Засадовье, где даже Луна захлёбывалась в собственном соку, постепенно становясь неразличимой среди множества беспросветных огоньков.
Они попытались определить направление. Угловатое смущение сумрака, вызванное сквознячками розовых воспоминаний, временами фиксировалось испуганным помаргиванием окон в контуры многоэтажек. Стоило задержать на них внимание, они нарывали, смазывались и пропадали. Ведь внимание — эго голое воспоминание, и когда оно облачалось в сумрачный рисунок, то становилось неразличимым среди целой толкучки других, развеянных из актёрского реквизита пандемониума "Ленинградской". Контуры домов служили приманкой для разнообразных воспоминаний, когда-то покинувших домовую начинку, где они розовели на вещах, буравили их, как лейкоциты и ДНК, обращая каждую вещь в подобие её хозяина. А если хозяин сгинул, вещи начинали заражать друг друга, дом пучился нежилыми светлячковыми окнами и, соприкасаясь с окружением, нарывал по контурам. Одно густо подведённое тенями, с лунным оттенком окно охватило Яна и Эвридику гнилушечным окоёмом. Все предметы вокруг них омертвели, как в отражении, и засорили своими частицами яново внимание, превратив его в мёртвое воспоминание. Подобные воспоминания неясно маячили на фоне соседних окон, плескались в беловатом с розовыми прожилками свете как полузабытые, с бельмами, зрачки.
Условным стуком Ян постучал сам себе в собственное окно. Эвридика, спустив гольфы ниже колен, села на занозистый верстак на кухне и, доедая "Алёнку", уже отведанную яловыми мышами, сказала, благоухая шанелью, что едет в Питер писать диссертацию о рабфаковках и уже вжилась в судьбу приехавших из провинции лимитчиц, и что у неё будет своя комната в общежитии бывшего рабфака.
— С наглядной агитацией на стенах!
И посыпались звёзды, напоминая, что не только на Земле бывает поздняя осень, когда не за что зацепиться дождю со снегом на стрекозиных окнах Красной стрелы с вечерним пассажиром, не поехавшим, а именно что — до-ре-ми-фа — и дальше, в фиолетовую белизну — ухнувшим в эту поездку, словно в запах жасмина в омутах лимитной парфюмерщицы, подобный чёрному свету, не могущему отлететь от тяжёлой звезды — упоительной центрифуги, взбалтывавшей его как желток, вытягивая желатиновые кости в усталую поездную змею, по чьей брони и норовили лягнуть аничковы и растреллиевые кони, пока фабричная ударница, не вкусившая ещё, как Ньютон, яблочка, выбрасывала из своих рабфаковски рукавов шахерезадовы ландшафты и изолинии предстоящего медового месяца под фанерным Лермонтовым или Грибоедовым вспухавшим благоуханным саркофагом тараканьей Персии, причинного места их мушиной любви, обхарканной нетерпеливыми шаферами.
За день до отъезда Эвридики из Питера они впервые поехали за город, в фонтанный плезир, где гейзеры шутих, временами вырывались из-под земли вместе с костьми строителей этого увеселительного места. Вот что значит петровская поджарость для Московии — взопрело петровское болото в натянутых изолиниях и карликовых границах просвещённых европейских дворов! В павильоне соки-воды испуганная Эвридика расплескала свой напиток, когда Ян неудачно пошутил про трупную сладость. И уже на станции к ним (опять!) подошёл околоточный сексот с носом амфибии, возжелавший проверить, есть ли у иностранноговорящих виза для выезда за черту города. И Яну вновь повезло, что амфибия, зачарованная заграничной целлюлозой, выпиравшей из лягушачьей кожи эвридидикиного паспорта, забыла потребовать предъявления его личности. — Всё же тебе лучше преночевать сегодня в другом месте. — И Ян переночевал у одноразовой бабки, сдававшей перегарную комнату в калечной коммуналке на привокзальной площади, а наутро он почти проспал проводы. От прибывавших — отбывавших поездов дома вокруг осыпали штукатурку, потрескивали и стрекотали. Осыпались бы и кирпичи, если бы не питерское население, легшее костьми в фундаменты опустелых домов. Болотный желатин амортизировал, истончался, превращаясь в плёнку, просвечиваемую подземной магмой, проецирующей багровое кино на низкое петербуржское небо. Конторский стрекот увеличивался: тра-та-та… Икса, секретарша багрового ангела была где-то неподалёку, на Литейном, работницей Большого дома. Она бессознательно тянулась к влюблённому в неё, застылому на столпе, александрийскому ангелу гулко пронизывающими вес препятствия пальцами, пользуясь тем, что жители ушли и увели своих мертвецов, богатых задним умом, как отводить незваных гостей глухими прихожими, задними дворами, задними числами и прочими непротокольными ходами. Ныне препятствия эти ветшали и усердно выгребались большедомными пальцами, жадными черпнуть горячие следы уходящих отсюда воспоминаний, непротокольными ходами открыть секретарше пределы человеческих отношений, тёмный лик пылкого небожителя, запечатлённый в питерцах и их обиталищах неземной страстью к Большому дому. Вдруг и Яна потянуло бочком на Литейный и ему показалось, что Икса смогла посмотреть сквозь окна своей конторы, Большого серого дома на Питер, на лицо вознесённого александрийца, тупо втягивала в себя понурые последки его воспоминаний о ней, которыми застывший ангел когда-то населил весь город. Город будто оседал на неживых оконных глазницах. За окнами исчезали остатки населения. Оттуда даже взгляд не возвращался, никакого отражения на стёклах. Чем ближе подходишь к Большому серому дому, тем больше вытягивает из тебя, не отпускает твоё жизненное излучение. Всё тепло туда уходит. Остался бы ледышкой и Ян, но его сторона, обращённая к Пулково, раскалилась, и, с отмороженным боком, принимая свет от одной Эвридики и опоражниваемый другой, он, как ракета, помчался в аэропорт, иногда выдёргивая из