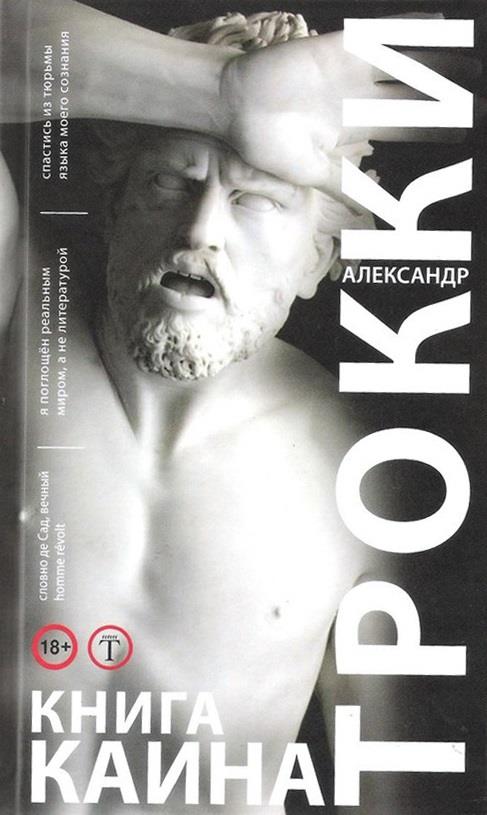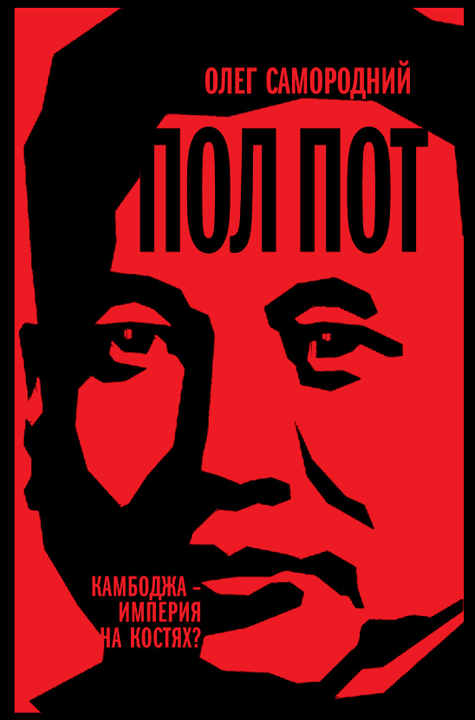Шрифт:
Закладка:
Это, впрочем, оказался тулуп монтёра, который поднялся к кремлевскому освещению. Это был Хыч, у которого Ян снял комнату, и который халявил оформителем у Викча на кафедре, перед тем как кануть сторожем в Московский метрополитен.
— Ты же работал в метро! — раззявился Викч на тулуп с фирменным знаком метрополитена. — Из подземной трубы — в главную трубу государства! В Кремль! К светочу! Карьера — земля и небо!
— Карьера, — закряхтел Хыч, — наружная вещь, декорация, ордена и прочие знаки убийств. Лишь в большом количестве они могут утянуть к подземным москвичам. Для нас, подпольных москвичей, Кремль — мозг костей, а не карьера. — Хыч постучал по рубину монтировкой.
Викч поморщился под тулупным духом. Конечно, со школьной скамьи он знал, что кремлёвская карьера ещё с Ивановых времён оказывалась кирпичным декором, который замуровывал выдающихся зодчих государственного костяка. Носителей государственной мощи. Традиция добавлять талантливых строителей в строительный раствор опор государства, по слухам, сохранилась и в сталинском метрополитене. До того, как Хыч накинул на Викча свой тулуп, он видел в собственном пронзительном звёздном свете тех из них, кто сумел выжить там, внутри стен. Эти внутристенные обитатели, правда, утеряли пигменты, подобно пещерным жителям, и стали малозаметны для наружных горожан.
Хыч полез с монтировкой в звёздную промежность. Викч догадался, что он хочет достать перегоревшее яйцо накаливания. Чтобы не оказаться с развороченной задницей, Викч попробовал сдвинуться с насиженного места. На удивление это удалось. Грязь и машинное масло с засаленного тулупа забились в остекленевшие поры его звёздно-раскоряченного тела, Васильчиковы лучи перестали выскальзывать наружу, Викч нагрелся, размяк и кожаной скорлупой облез с тяжёлого яйца. В начинке оказалась знакомая птица — окрылённое сердце его одиночества о-Хохо. Ещё недавно оно окрылило вокзальную юницу Черенкову. И когда та пыталась улизнуть из мозга ангела-рюриковича, взволнованного неба тающей Москвы, оперившееся сердце специально так сильно билось в её девичьем кустике, чтобы Рюриковичу могло показаться, что прелестница просто оседлала летучую метёлку. Но чуткий Рюрикович не обманулся. Его внимание тяжёлой бронзой осело на трепетавшие в ревнивом мозгу пёрышки. Бронзовая птица не удержалась слабосильным кустиком и, рассекая разряды грозового мозга, притянулась стоявшей под напряжением рюриковичской башней Кремля, вонзённой в московское небо. Служила громоотводом, пока Викч с Васильчиковой не покрыли её, как яйцом, кристаллами рубиновой изоляции. Усталому Рюриковичу, только что извергнувшему этой башней своё перепрелое московское нутро, нужен был успокоительный клапан страстей между двумя его царствами — небесным и червивым. Сердце одиночества, безразлично опускающее свои радужные вену и артерию то в то, то в другое, ему прекрасно подходило. Поэтому оно и впало в яйцо царственно-звёздной формы, а когда Викч с Васильчиковой его высидели, окрепло и развернуло оба свои сосуда византийскими орлиными шеями.
— Третий Рим, — заявил Хыч, проверяя, не сочится ли что сквозь зажимы клювов. — Серое, промежуточное! московское царство. Отстойник. Здесь и живое, и мёртвое — всё стоялое! Или вялотекущее. Я видел отсюда, как вы там в первом, верхнем царстве небесными переливами развлекались со смуглянкой. Это из-за неё ты сейчас пунцовый как рак?
— Да, из-за Азеб Васильчиковой, — застыдился Викч. — Я её ещё на вокзальной Плешке встретил.
Хыч ухмыльнулся, пристально вглядываясь в Викча:
— Вот в Азеб твоей эфиопке жизнь со скоростью лучей света несётся, а москвичи эти икс-лучи в свои артритные жилы густят, заболачивают, чтобы самогоном пошли её эфиопские улыбки и жесты в пиявки неповоротливых тел. Да и то обычно лишь чуть шевелит их свернувшаяся память о чужой, эфиопской жизни. Но сейчас вы, кажется, раздразнили гусей глупой позой. Видите, что творится внизу! Сколько жаждущих поднабрать светлых сил у осветлённой, раскоряченной звездой девушки. Ты её как напоказ под своим стеклом выставил. Каждый видит свою мечту.
Хыч кивнул ей Красную площадь. Туда ступали все новые колонны демонстрантов. Виднелись лозунги и транспаранты: «К свету!», «Добьёмся!», «Овладеем!», «Дерзайте!» и пр. Стройная дикая толпа осаждала Арсенальную башню. Васильчикова в ужасе зарделась, Викч вновь остекленел. Хыч хмыкнул:
Твой рубин теперь не защита. Желаешь уберечь свою сокровенную, нужно от живых к отжившим убираться. Пиитическим натурам с их звёздами место под демонстрациями. Снаружи будут проходить.
Викч явственно увидел мертвенную бледность под хычовой бородой.
Нас здесь много замуровано, в кремлёвских стенах, под Красной площадью, — Хыч, успокоительно разглагольствуя, потащил его к внутренней, спускавшейся в Арсенальную башню лестнице: — Не бойся, твоя Васильчикова в сохранности останется. Она слишком горяча. Мы, подпольные люди, в стенах и под землёй научились без женского тепла обходиться. Эфиопскими лучами питаемся после того, как наземные москвичи их используют, попортят тёмными страстями и жизнями. В этом есть своя прелесть. Пока жизнь по жилам москвичей течёт, у нас есть время, чтобы не захлебнуться ею бездумно.
Со стуком и звоном Хыч привёл в подвальную, где-то под башней, сторожку, сплошь уставленную самогонными аппаратами различной формы и величины. Пощёлкал пальцами:
— Мы, пережившие люди, с вами повязаны, но жизнь слепо не копируем, а, как истые её гурманы, играем на ней фуги и скерцо. Вот я трудолюбиво, как пчела или жук навозный собирал, в деканате или где бы ты ни наследил, слёзы твоей жизни. А здесь я их перегоняю, дистиллирую, фильтрую по разным оттенкам и вкусам. Вся палитра от питекантропа