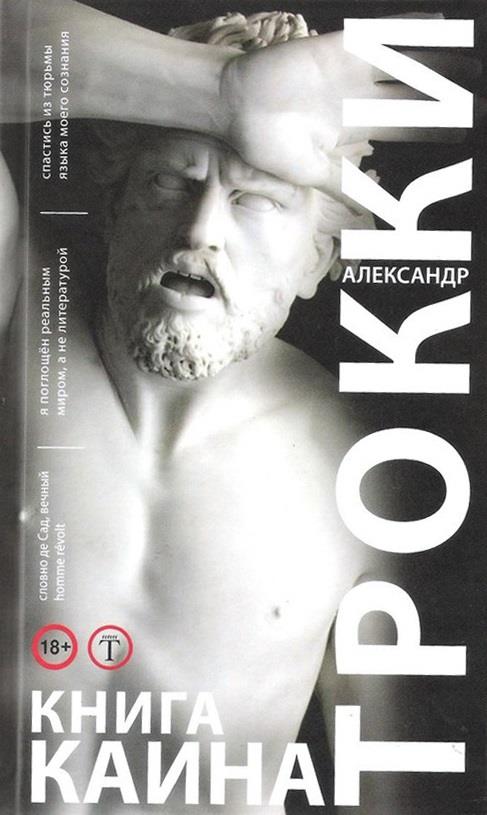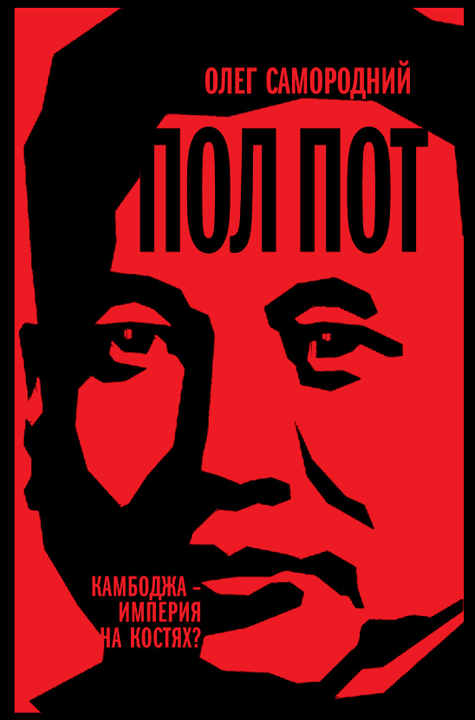Шрифт:
Закладка:
— Хыч хвастливый! — вдруг завыли, занегодовали за дверью, под полом процессы разложения, шамкающие, чвакающие: «Хмелю алчем!» Безудержно лезли в комнату каждый своим характером, мертвецки потёртым планетой обликом: — Ты нас наприглашал собутыльничать, обещал упоенье пьяной мечтой! Этой что-ли? — Хычовы собутыльники сгрудились вокруг Васильчиковой. — Да она у тебя пресная, как преграда невинной девицы! В земле тысячи таких преград попадаются. Мы можем так её разворотить, как живым и не снилось, не только подбрюшье, но и каждую клеточку ей вспороть, а до источника упоенья так и не добраться. Ты кто такая? — обратились они к Азеб. У той зуб на зуб не попадал. Викч мог лишь немо громыхать цепью.
Она мечта нашего поместного небожителя, Рюриковича, — объяснил хозяин, викчев хыч. Васильчикова вдруг затараторила, глядя ему в глаза:
— Вам меня и мои клетки воротить, что камни колодца ради забродившей грязи грызть! Один подпольный сластолюбец пару дней будет тем пьян, чем всех наружных потребителей 1001 ночь утолять способна.
— Да-да, коллеги, — решил высказаться викчев хыч. — Во время шашней с моей живностью, он кивнул на Викча — раскрывалась. Её все горожане имеют. И она в них пленной жизнью волнуется, сколько ею ещё пользоваться будут, покуда под забор не попадёт, — а потом и мы поживимся! Её и деревья лапают! Каждый камень красотой обладает! Поэтому в Москве под каждым камнем свой мертвец лежит, прелесть и негу каменные холодит. Красота везде разлита, недаром небожитель о наш мир головой бьётся.
— Не о мир он бьётся, — тараторила Васильчикова, заговаривая вышеупомянутые зубы. — Он о душу одной девицы здешней разбился, об осколок предыдущего небожителя. А мир наш видимый, московский с его обитателями и камнями — это синяки на рюриковичевом мозге. Обитателям кажется, что они стоят, движутся, мир кругом роится, — а на самом деле это шишки роятся, что Рюрикович, падая, так или эдак себе набивает. Здесь, в Москве, об удары душевного пульса этой Иксы-девицы, в который он напряжённо вслушивается. Естественно, в москвичей, в Москву прожилки рюриковичева мозга вкрапляются, с памятью, представляющей вышние красоты! Со мной то есть. Москвичи в мире живут, будто женское тело гладят, потому что у меня с ними одно кровообращение, хотя и побитое, с синяками.
Тут уж не выдержал Викч:
— Красоту не чужой пульс в меня втемяшивает! Красоту я сам вижу, в листочках-лепесточках, полётом души!
Азеб немножко замялась:
— Тебе кажется. Твой взгляд — это не полёт души, это полёт рюриковичева мозга вокруг тебя. — Она попробовала насмешливо взглянуть на Викча через плечи толкущихся в отходняке хычей: — А твоя душа — это удар иксиного пульса. Он какое-то время тебя сотрясает, потом, как всплеск морского камушка, в бесконечность уходит и сотрясает миры. Весьма слабо, впрочем.
Хычи завыли в неутолённой жажде и схватили Азеб за лопатки. Её лопатки ходили ходуном, будто она хотела взлететь. Азеб пыталась отнять их, убеждающе говорила: — От этой встряски и ваше утоленье зависит. Москвичи её не выдерживают. У них тело рушится в душу! Во внутренние ангельские прожилки! Как могила в тёплые протоки. Киснет грязцой! Эта душевная бражка и есть ваше упоенье. А моя душевная чистота сквозь ваши зубы, как вода сквозь песок.
— Взашей её, взашей! Чистюлю эдакую! — заорали убеждённые хычи. — К пресным обывателям! Благо все здесь гуртом. Вон на площади масса демонстрантов пресной мечты жаждут. Мигом её доквасят. Тогда и мы упьёмся! — Они потащили слегка упирающуюся Васильчикову к дверям и вышвырнули её наружу.
Викч прильнул к окошку. Слава небесам! Ну конечно, на Красной площади никто Васильчикову не заметил! Никто обычно и не замечает собственной жизни, хотя та и толчётся в теле, как в ступе. Всполошно поспевает за невидимым временем. Он успокоился. Время — толчки падения небожителя и для Васильчиковой, стюардессы этого падения, лётного салона головы влюблённого ангела-рюриковича, Москва тоже была ступой. Пассажиры ступы, москвичи, не находили ничего примечательного в хозяйке лётного салона, девушке из обычной городской толчеи, хотя и смугловатой. Ведь все азебовы метания по городу, под московскими, напоминающими ангельский череп, сводами, были лишь обтанцовыванием рюриковичева низвержения, ему же в такт дёргались и телодвижения московских обывателей, не только внешние, но и мозговые. Сейчас это было видно по их мыслительным аппаратам, в унисон тюкавшимся в окошко сторожки азбукой Морзе: «Вздрогнем, вздрогнем! Мы тоже жаждем хмелю!» Это увидели и хычи, слонявшиеся по комнате, вразброд загалдели:
— Братцы! Послушали гнилого специалиста! Нашли кого слушать! Москвичам не нужна жизнь! Её вихляющиеся прелести здесь никого не прельщают!
Викчов хыч отругивался:
— Глупцы! Конечно, Васильчикова вихляется в сосудах, под кожей и мосшвейпромом как под паранджой! Такие покровы для москвичей — не прельщенье! — оправдывался он. — Толстая паранджа — утешение для влюблённого небожителя! Это слои его черепа, рухнувшего на город арочными перекрытиями, сводами подъездов, сердец и юбок! Под ними трепет паденья —