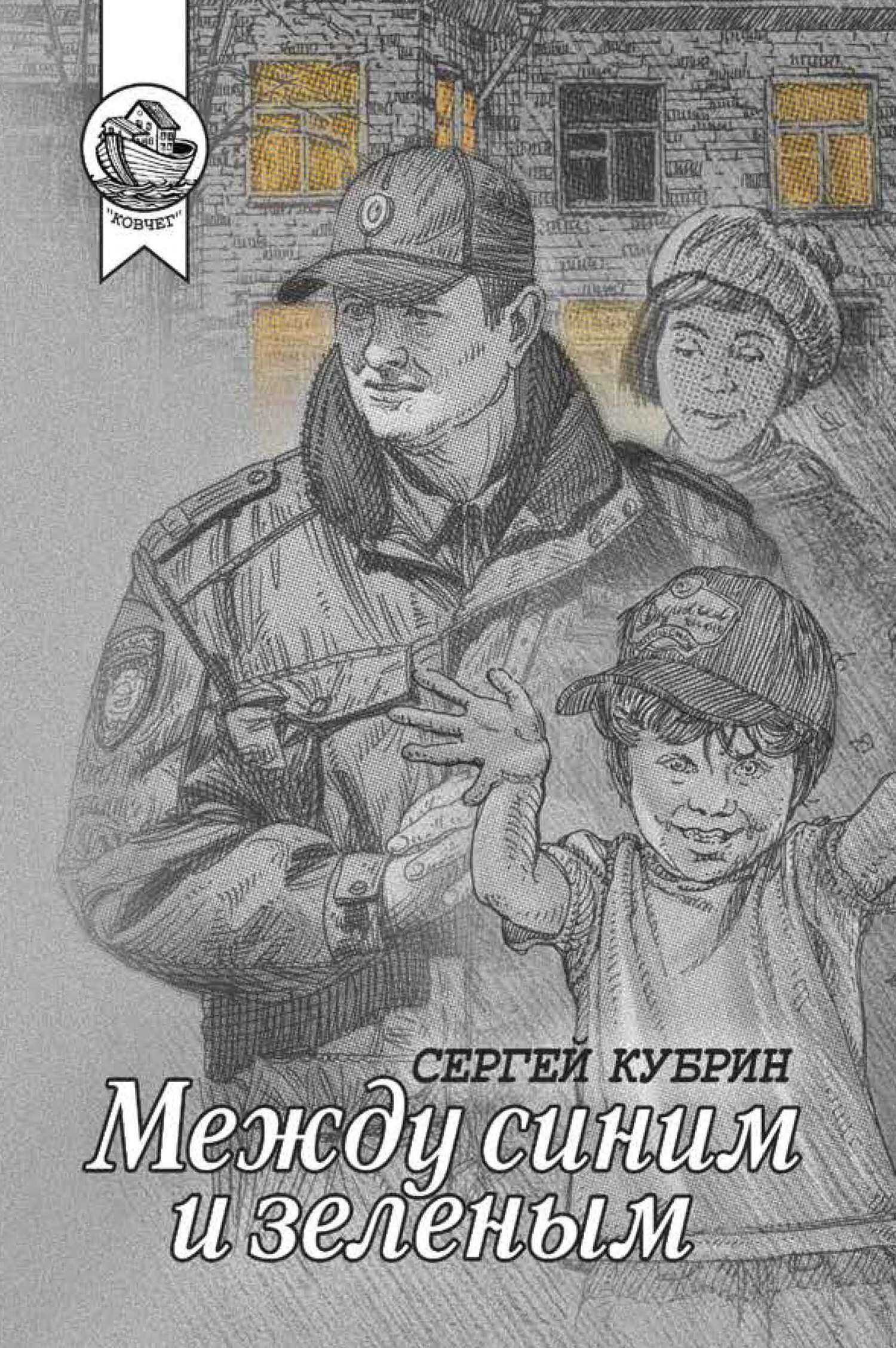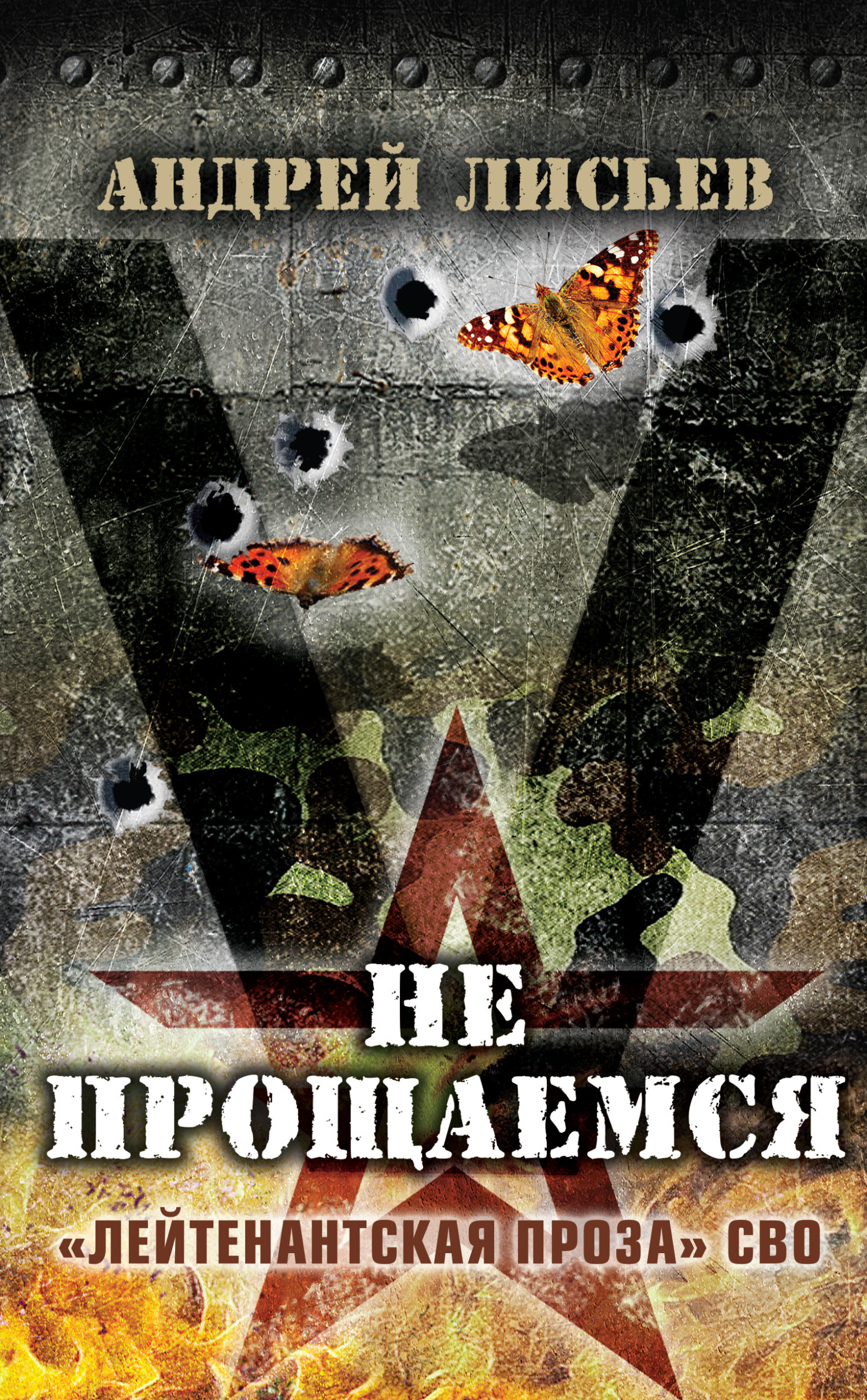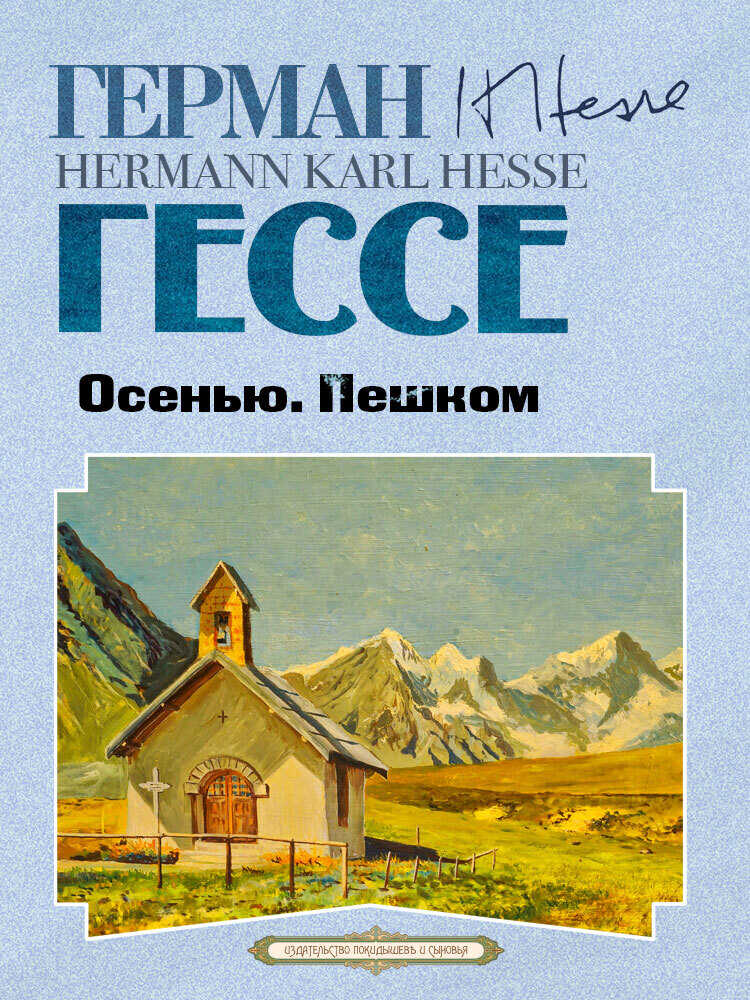Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Мир, в котором мы живем, жесток и несправедлив. Так как остаться в этом мире человеком, не потерять себя и любовь к ближним? Что важнее: месть за убитого друга, продолжающая череду жестокости, или жизнь во имя добра? Обида, порождающая злобу, или возможность сделать свой мир лучше? Стоит ли бесконечно ругать тьму, даже не попытавшись зажечь свечу? Ответы на эти и другие жизненно важные вопросы стремятся найти герои произведений Сергея Кубрина, обретая надежду и постепенно меняя свой мир.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Кубрин»: