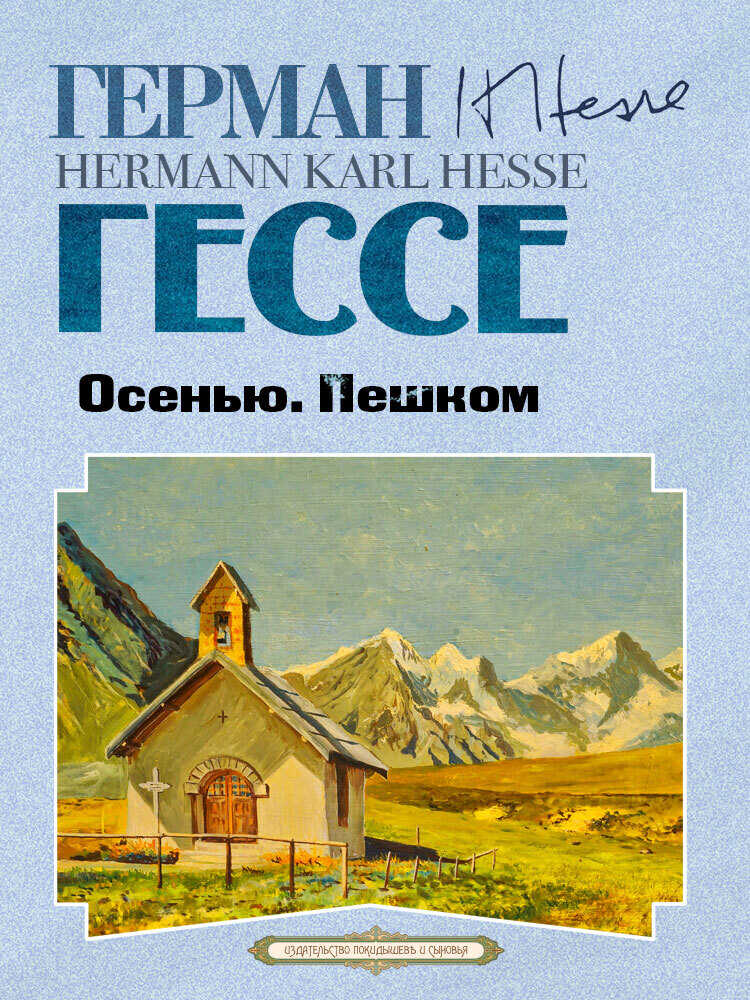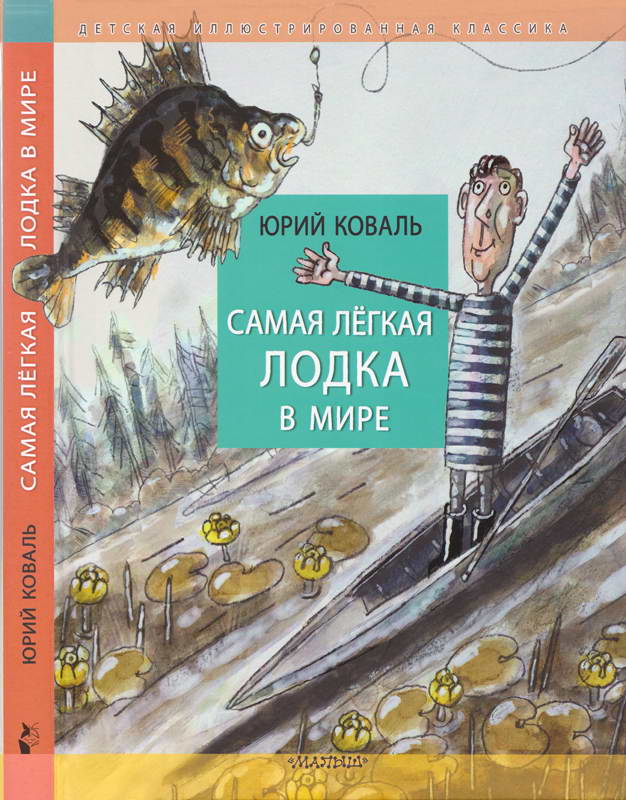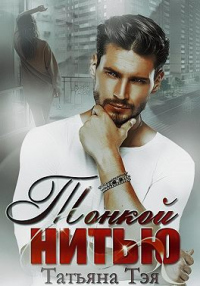Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Рассказы Германа Гессе, вошедшие в сборник «Осенью, пешком», яркий пример того, что по-настоящему талантливый автор легко может позволить себе отказаться от всего сенсационного, яркого или же наоборот мрачного и трагичного, потому что даже без искусственно созданного напряжения он сумеет увлечь читателя, сталкивая его в своих произведениях с самим собой, своей судьбой, своими переживаниями и эмоциями. Истории любви, судьбы людей, непревзойденное изображение детских, юношеских и подростковых переживаний, великолепное описание природы, городской и сельской жизни – всё это ждет вас в рассказах, представленных в данном сборнике.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Герман Гессе»: