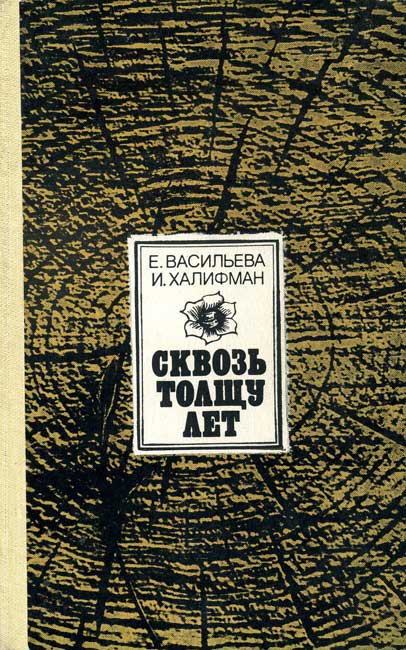Шрифт:
Закладка:
Оглавление:
Повесть О. Бэйс «Дверь» 4 Рассказы А. Крамер «Картина» 66 П. Олехнович «Ловушка» 74 Д. Сеглевич «Выбор» 90 А. Степанская «Страшный человек» 105 Т. Адаменко «Как Киаран голос себе вернул» 114 Д. Чистяков «Через месяц – расстрел» 123 К. Хиллмэн «Лампа царицы Шаммурамат» 130 Л.Шифман «Коммутативный закон сложения» 160 М. Дегтярев «Solus Rex» 165 Миниатюры А.Юргенева «Будильник» 174 В. Гольдштейн «Особое желание» 177 Переводы М. Варцбергер фон Хохберг «Цепная авария» 182 В. Уайтчерч «Картина сэра Гилберта Маррелла» 189 Г. Каванах «Как волшебный народ прибыл в Ирландию» 201 Эссе Э. Левин «Философия стихий и стихии философов» 212 Наука на просторах Интернета Ю. Лебедев «Гравитационные волны открыты!» 230 Стихи Ю. Нестеренко 238 В. Заварухин 241 Е. Наильевна 243 Т.Шеина 245 В. Смоляк 247 Т. Гринфельд 249 Сведения об авторах 250