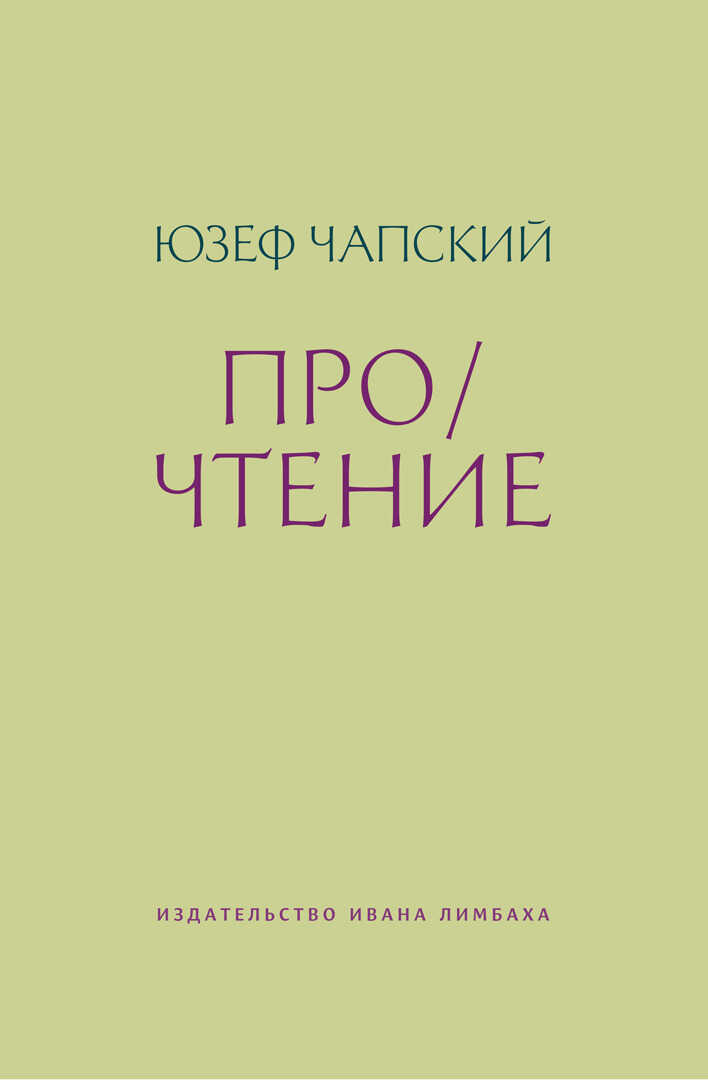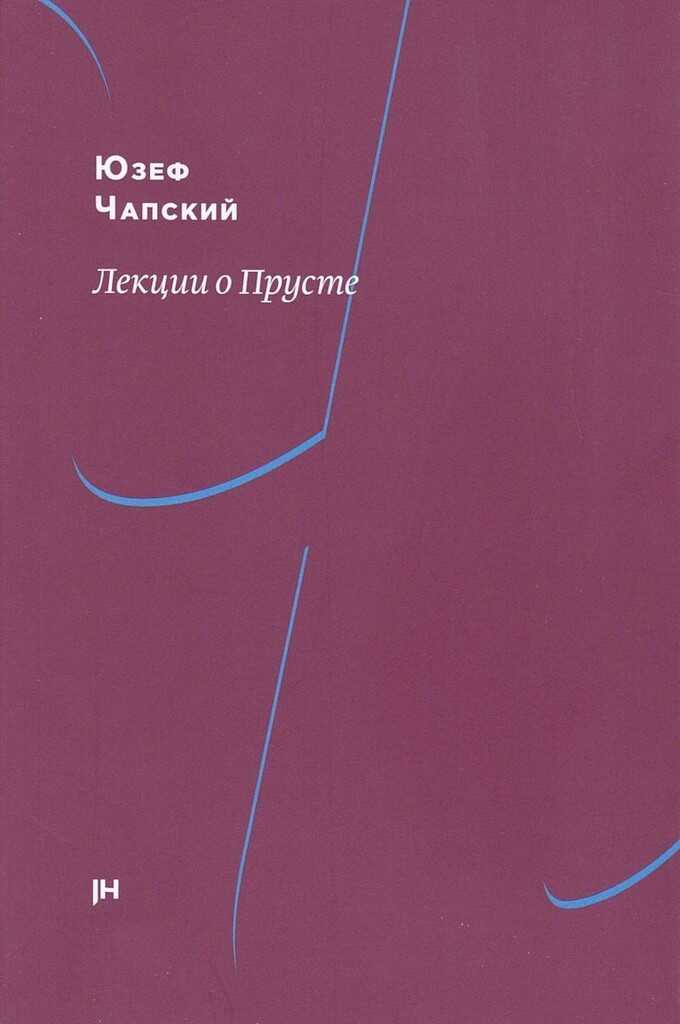Шрифт:
Закладка:
Но тут же он отмечает, что это лишь проблески, не оставляющие следа в жизни, и что он сам, вознесшись таким образом, тут же возвращается назад. И снова думает: «…откуда берутся эти суггестии престранных истин, выражение которых уже в следующую минуту кажется моему уму мертвой буквой».
Эти моменты осознанности озаряют Мен де Бирана словно молния.
«Какая-то пелена, покрывающая мой интеллект, вдруг спадает, чтобы тут же опуститься вновь», — жалуется философ.
Что дает читателю этот дневник человека слабой воли, течение жизни которого как будто всегда зависело от внешних событий и никогда от него самого?
Чему обязано это ощутимое в обоих томах неустанное внутреннее развитие философа? Только сознанию.
Здесь я должен сослаться на Симону Вейль, на ее гениальные заметки, собранные и изданные посмертно[154]. В цепи заметок-исповедей, заметок-мыслей это последнее по времени звено.
Вот что пишет Тибон в предисловии к ее книге:
Воля хороша для служебных задач, она обеспечивает правильное функционирование врожденных добродетелей, которые для работы Благодати — то же, что труд пахаря перед посевом… Как Платон, как Мальбранш, Симона Вейль придает в этой сфере бесконечно большее значение вниманию, нежели воле.
И вот поразительные строки Симоны Вейль: «Нужно быть равнодушным к добру и злу, но поистине равнодушным, что значит направлять и на одно, и на второе одинаковый свет внимания. Тогда добро автоматически побеждает». Вся жизнь Симоны Вейль — это стремление к созданию «высшего автоматизма добра» путем неустанного углубления сознания, все более очищенного от удобных иллюзий, неосознанной лжи.
Воля властна лишь над парой мускульных движений… разумна только внутренняя мольба, потому что благодаря ей мы избегаем необходимости напрягать мускулы. Что может быть глупее, чем напряжение мускулов и стискивание зубов в ответ на добродетель, поэзию или необходимость решения проблем… Гордыня дает такой зажим.
Не воля, а внимание может дать нам толчок на пути развития.
«Внимание в высшей ипостаси, — пишет Симона Вейль, — это молитва».
«Если мы обращаем ум к добру, невозможно, чтобы постепенно и вся душа к нему не устремилась».
Я упрощаю мысли Симоны Вейль, цитируя отрывки, которые, может быть, способны «играть» только в свете ее совершенно суровой атмосферы.
В главе «Dressage»[155] Симона Вейль делает главный акцент на моменте «исправного употребления, согласно обязанности, свойств воли любви, познания…»; она отвергает (следуя в этом за Иоанном Крестителем) вдохновение, отвлекающее нас от добросовестного, четкого выполнения «простых и низких» обязанностей. Однако для нее исправное действие воли — непременная, но второстепенная база.
Это как будто пренебрежительное отношение, с которым она несколько раз пишет об усилии воли, основано, возможно, на том, что у самой Симоны Вейль — насколько можно судить по ее биографии и записям — воля была железная, на том, что для нее лично воля не представляла почти никакой проблемы, и что она остерегалась как огня подмены сознания «напряжением мускулов», сознания, превосходство которого над волей она всюду подчеркивает.
Мен де Биран, человек тысячи слабостей, избавиться от которых он не сумел до самой смерти, может служить самым убедительным примером абсолютно беспристрастного сознания, которое с годами поднимает его, словно вопреки ему самому, вопреки его слабой воле, — все выше и выше.
«…При одном условии: чтобы не лгать и оставаться в напряженном внимании» — эта фраза Симоны Вейль могла бы послужить эпиграфом ко всей жизни Бирана. Неустанно всматривавшийся в себя, писавший все время о себе, этот человек с лицом, как на портрете Грёза, «не лгал и всегда оставался в напряженном внимании». Свет, подаренный нам его «Journal intime», свидетельствует о том, чего он достиг в работе над собой.
Шопенгауэр был не прав: «я», так часто повторяемое Мен де Бираном, точно не звучало как признак глупости.
19499. Был ли прав Маритен?
Не помню случая, чтобы я начал читать статью Збышевского-Ненаского и мог бы от нее оторваться. Я всегда читаю его с увлечением, порой со злостью, но всегда до конца. Сколько же [у него] неточностей на каждом шагу, просто ошибок. В одной статье Збышевский укокошил Даниэля Галеви (жив и здоров), в другой обратил в католичество Бердяева (никогда и не думал становиться католиком) и т. д. и т. д. Эти неточности происходят, во-первых, от недопустимой великопанской заносчивости и нахальства, кото-рыми он как будто кичится, а во-вторых, все-таки от тех несносных условий, в которых мы все сегодня живем: где время, где библиотеки, чтобы проверить цитату, чтобы не допустить этих ошибок и неточностей. Мы все их допускаем, работая без передышки, проверяя написанное ночами или не проверяя вовсе.
Почему статьи Збышевского так приковывают внимание? — потому что в них всегда заметен большой талант и тот резко личный тон, то «я», которое я отстаиваю в литературе, потому что оно спасает читателя от деклараций, бесцветных манифестов, мертвых, коллективно нажитых и никого не обижающих банальностей. Збышевский в «Львув и Вильно» и в «Вядомосци» написал две статьи о моей книге. Кажется, не принято реагировать на критику, а еще меньше — кусать, как собака, руку, которая тебя гладит и похлопывает. Но Збышевский затронул слишком важный вопрос, чтобы я мог промолчать.
Речь об отношении к России. Я вовсе не отношусь к ней как «утонченный» путешественник, полу-Пруст, едущий в Россию на экскурсию, а как человек и поляк, проживший в России много лет и ненавидящий в ней все подлое и восхищающийся всем, что восхищения достойно. Отношение такое кажется мне единственно достойным определенной польской традиции, доминирующей в польской словесности традиции Мицкевичей, Норвидов, Бжозовских и тысяч менее значимых. Той традиции, от которой нам не отвертеться; она обязывает нас, либо нужно ее отчетливо перечеркивать и ней бороться. Грыдзевский как-то мне сказал, что с легкостью мог бы собрать антологию текстов в духе брутального зоологического национализма в немецкой литературе и что у этой антологии был высокий литературный уровень. Из польской литературы — как