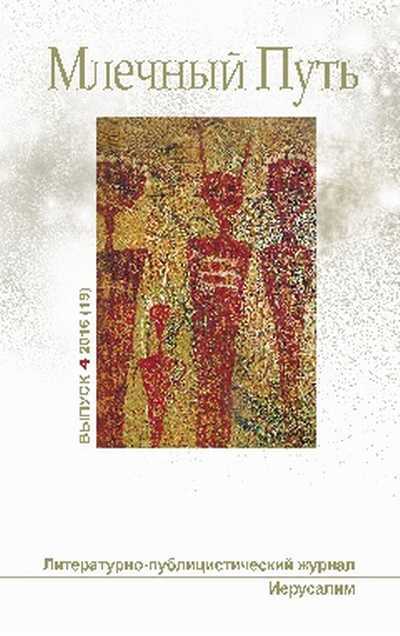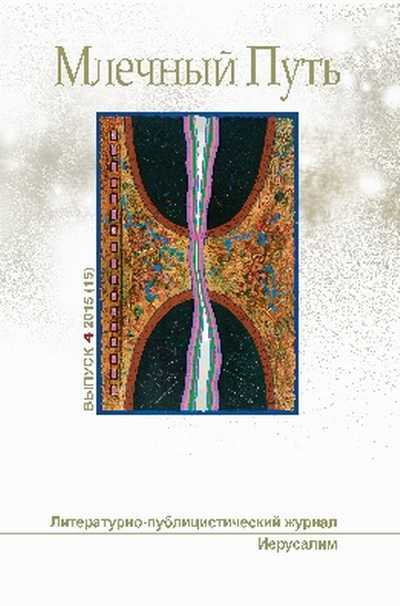Шрифт:
Закладка:
Оглавление:
Повесть Ю. Нестеренко «Тилли» Рассказы М. Питерская «Эксперимент» 78 Е. Добрушин «In memoriam» 84 К. Хиллмэн «Лесная зорька» 88 Э. Вашкевич «Четыре жизни Бореньки Элентоха» 113 Миниатюры Л. Ашкинази «Сложная проблема» 130 Переводы А. Рив «Перстень с лазуритом» 134 А. Бирс «Мой собственный призрак» 153 А. Белиловский «Собачонка Оори» 158 У. Лифшиц «Маятник» 167 Р. Нудельман «Станислав Лем – в письмах» 171 Эссе П. Амнуэль «Генрих Альтов – писатель-фантаст» 202 Н. Резанова «Протектор, или Агент 04» 218 Наука на просторах Интернета Ю. Лебедев «Наномеханика: молекулярные машины» 222 Стихи А. Аринушкин 230 М. Полыковский 234 Х. Сенеш 241 В. Спектор 242 Сведения об авторах 250