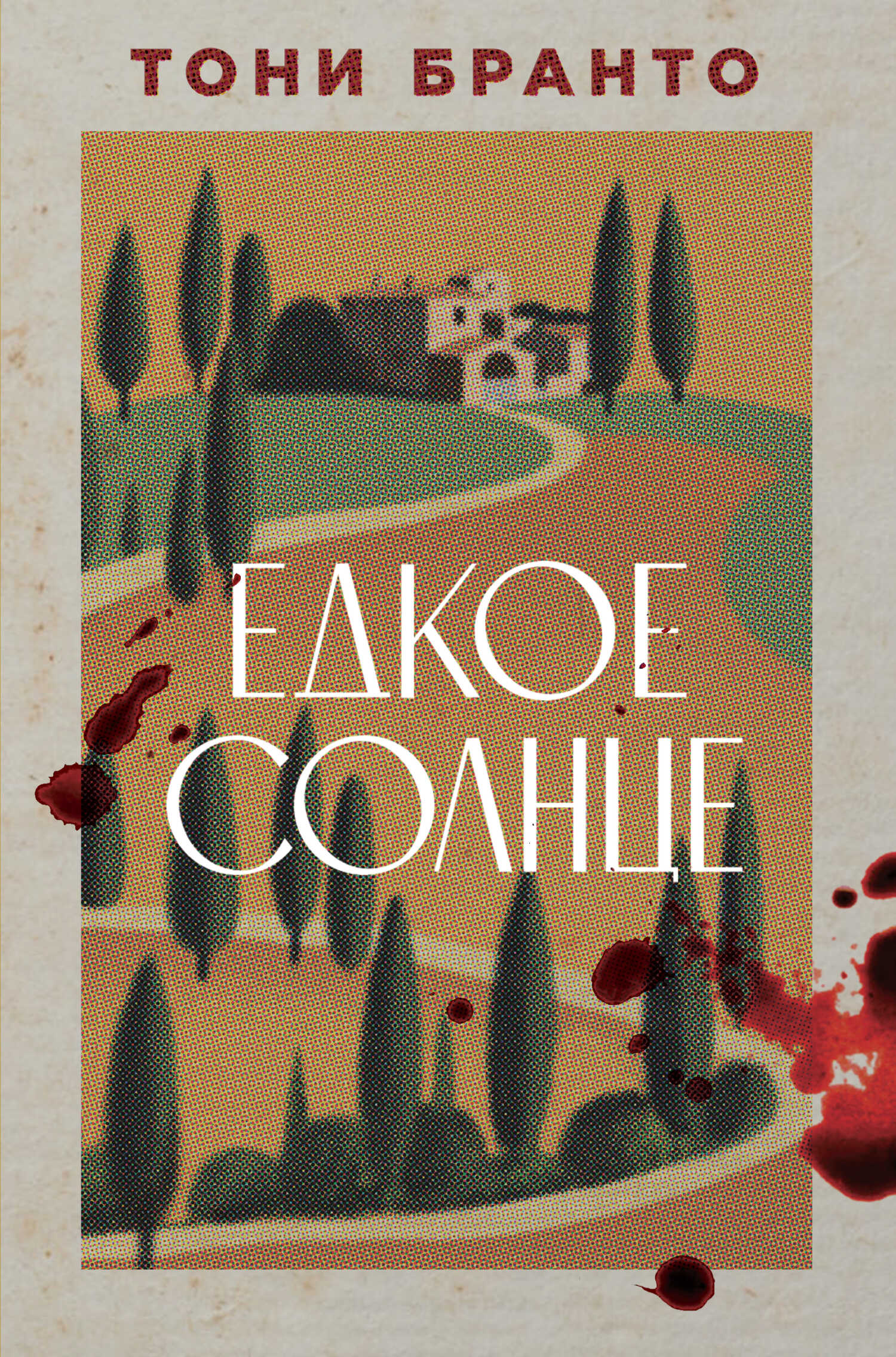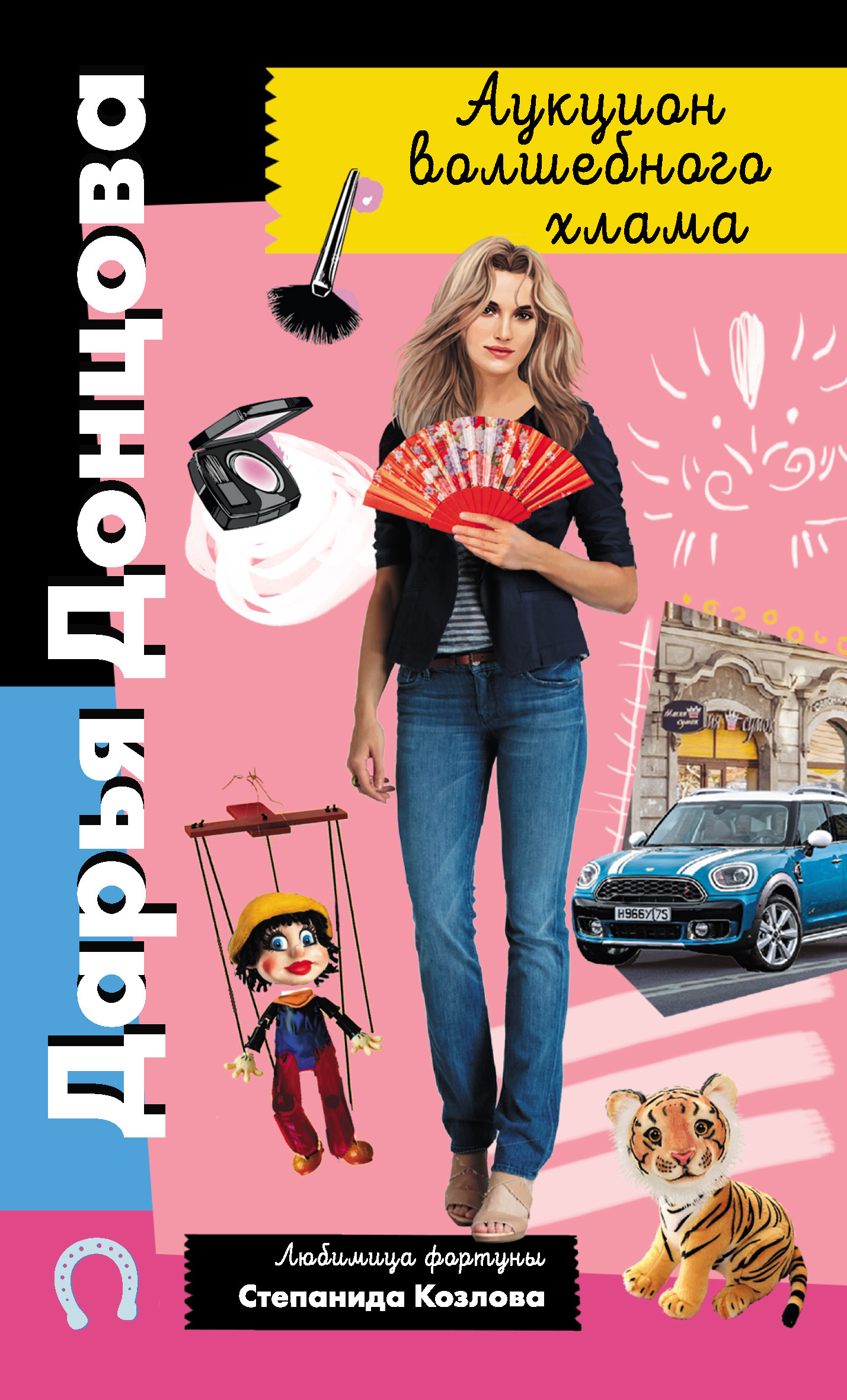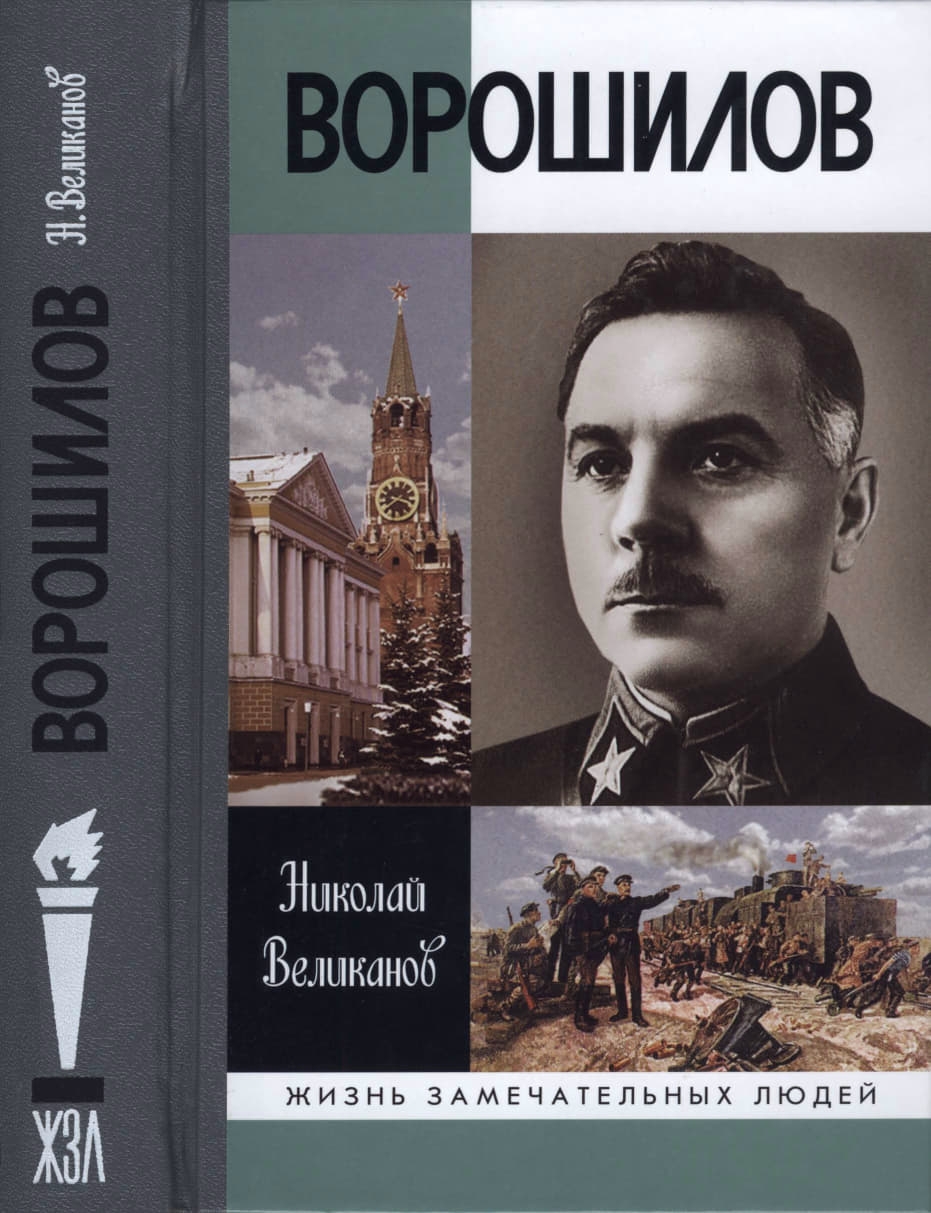Шрифт:
Закладка:
«Золотая молодежь» частного английского университета облюбовала Волчье кладбище для своих утех. Тут можно свободно курить, выпивать, соблазнять местных простушек. Заводилой веселой компании по праву считается сын проректора – Тео, которому сходит с рук любая шалость. И в студенческой театральной постановке Тео – на первых ролях. Ему предстоит сыграть Святого Себастьяна, по преданию пронзенного стрелами на кресте. Никто и не подозревает, что эта роль окажется для парня пророческой… Проходя однажды вечером через кладбище, сокурсники Тео Адам и его брат Макс внезапно услышали душераздирающий крик и увидели молодого повесу распятым на кресте. Предположение, что это месть родителей кого-то из оскорбленных девушек, не находит подтверждения. Тогда кто же убил сына проректора? Адам и Макс начинают собственное расследование и узнают правду… на краю опасного крутого обрыва… Роман в лучших традициях классического английского детектива. Кровавая расправа на старом кладбище потрясла город. Но никто не знал, что стояло за этой новой Голгофой на самом деле…