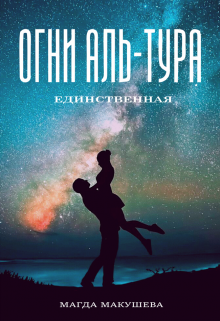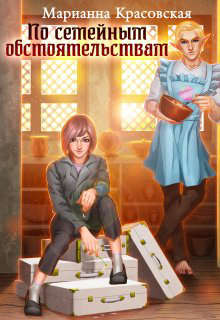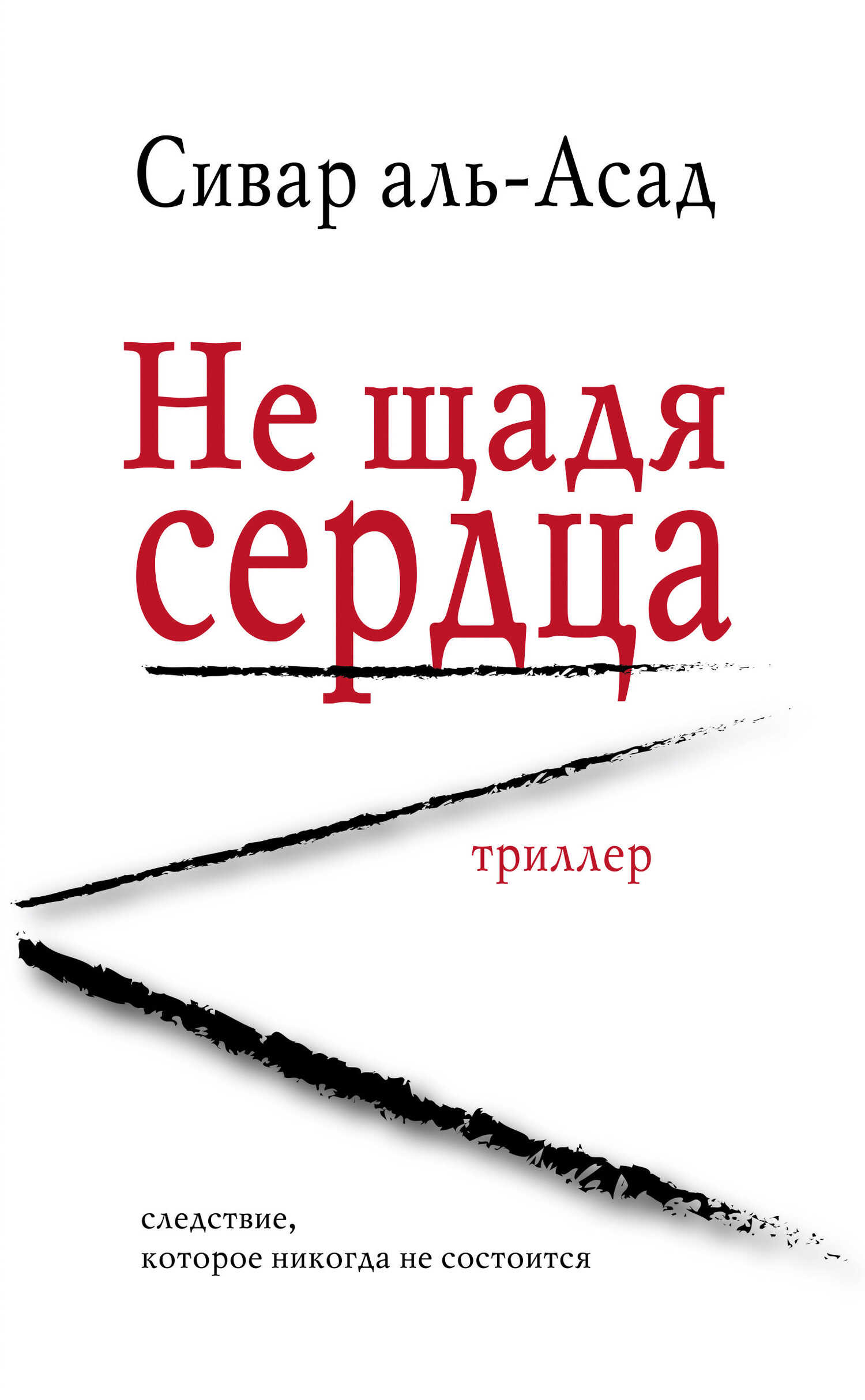Шрифт:
Закладка:
Комплект «Большая книга по истории Ближнего Востока» включает пять книг, каждая из которых посвящена уникальному аспекту культуры и истории Ближнего Востока: «Мекка. Биография загадочного города», «Стамбул. Перекресток эпох, религий и культур», «Династии. Как устроена власть в современных арабских монархиях», «Афганистан. Подлинная история страны-легенды», «Иерусалим. Все лики великого города». Он представляет собой увлекательное погружение в богатое историческое наследие этого региона.«Династии» раскрывают сложный мир арабской политики и динамику монархий, играющих значительную роль на мировой арене, и станут путешествием в запретные чертоги тех, кто влияет на современный мир, и чьи роскошные дворцы по-прежнему стоят на песке, нефти и крови.«Иерусалим» предлагает многослойный портрет одного из древнейших и самых значимых городов, исследуя его религиозные и культурные аспекты, эпохи рассветов, закатов и даже полного забвения, умирания и чудесного воскресения!В «Мекке» собраны уникальные и увлекательные материалы о запретном городе для немусульман – центре исламского мира, чья история и современность неразрывно связаны с религиозными традициями.Книга «Стамбул» переносит читателя в город, где Восток встречается с Западом, раскрывая его богатое историческое наследие и культурную мозаичность. Стили и эпохи, традиции и судьбы, прошлое, настоящее и будущее затейливо и непредсказуемо переплетаются в этом городе, подобно узору на коврах его мечетей.«Афганистан» описывает сложную и бурную историю государства, которое стоит на перекрестке мировых цивилизаций. Этот комплект – идеальный выбор для тех, кто стремится глубже понять значимость и влияние Ближнего Востока на мировую историю.Мария Кича – кандидат наук, преподаватель и автор книг о Ближнем Востоке. Владеет турецким, армянским, английским, итальянским, арабским и ивритом. Многие годы путешествует по Ближнему Востоку и соседним регионам, изучая местную историю и культуру. Неоднократно бывала в Турции, Египте, Марокко, Тунисе, Алжире, Ираке, Сирии, Ливане, Иордании, Палестине, Израиле, ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Омане, Азербайджане и Иране. Ведет паблик о культуре и истории Ближнего Востока «Первый ближневосточный», на который подписано более 35 000 человек.