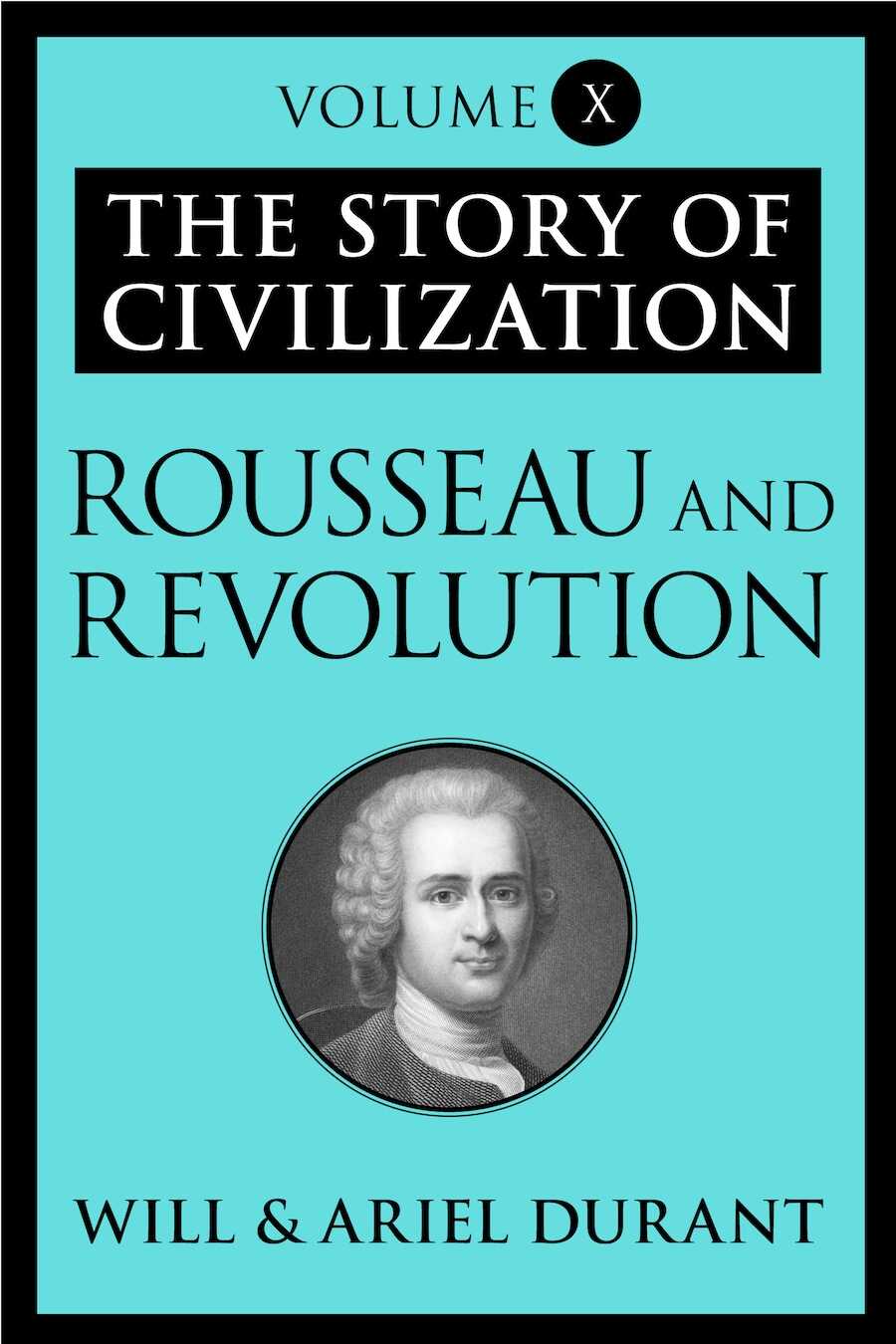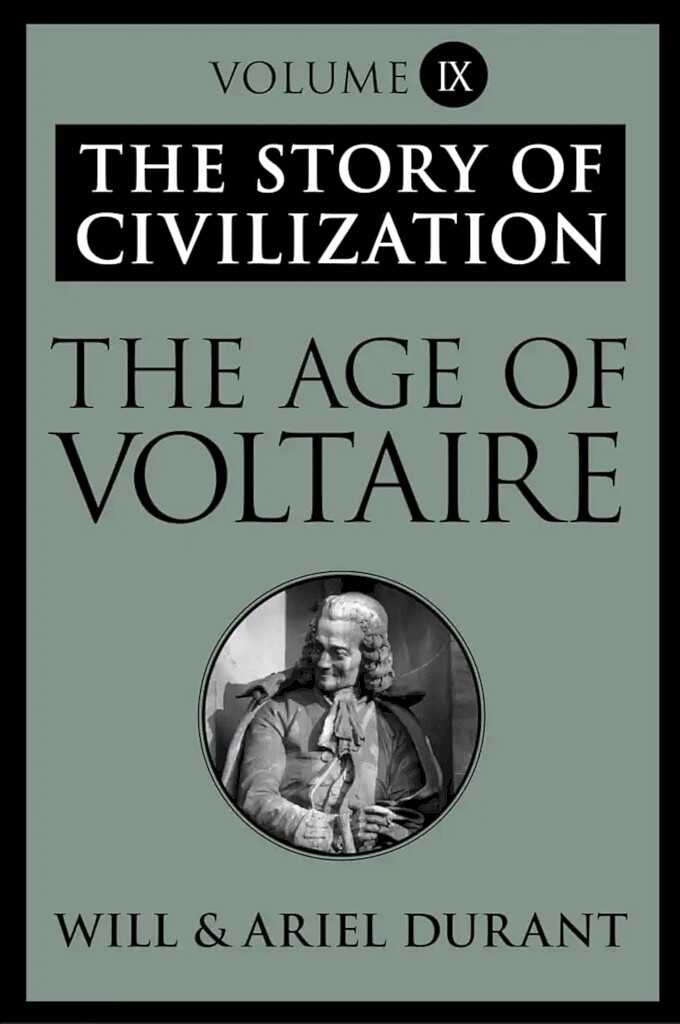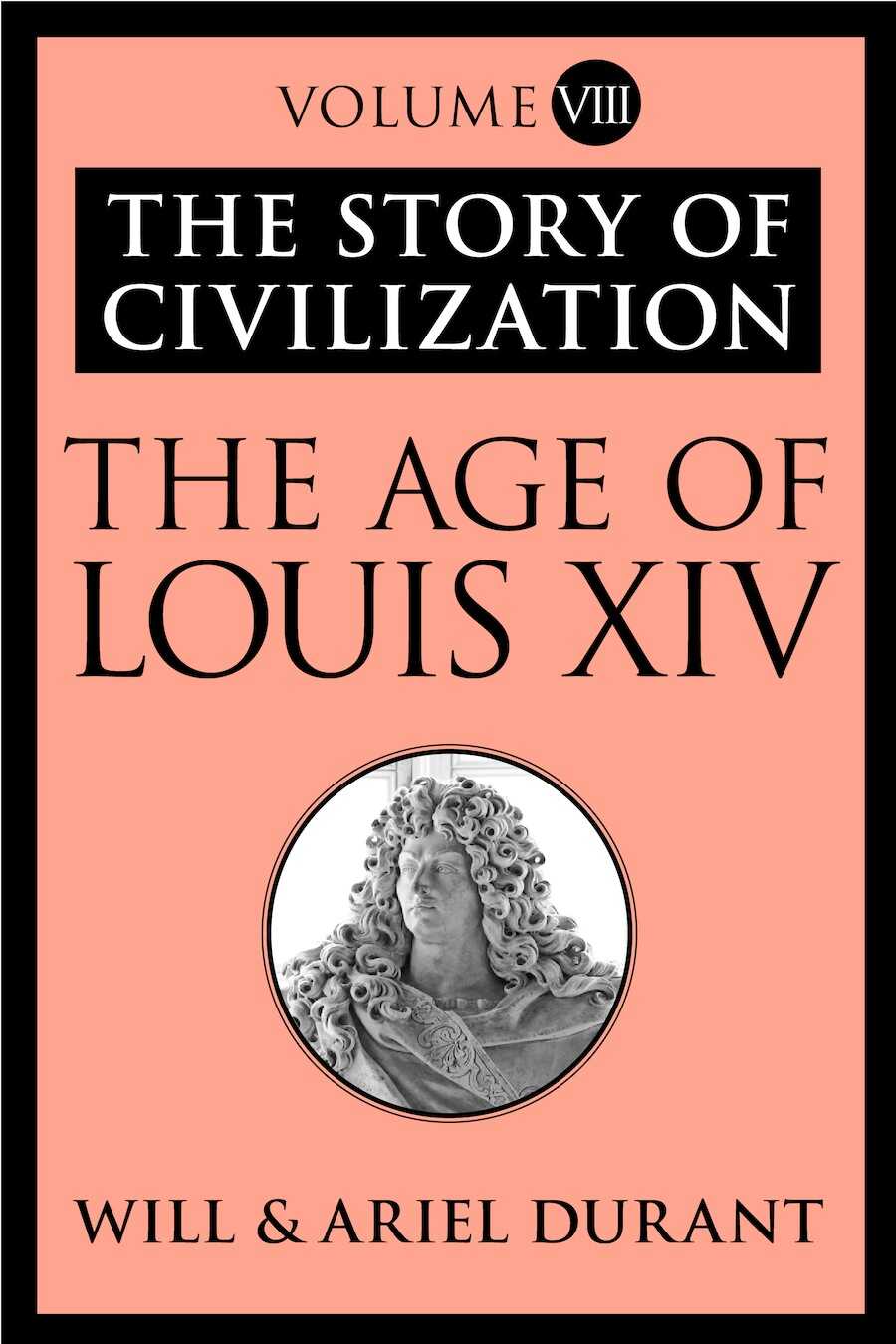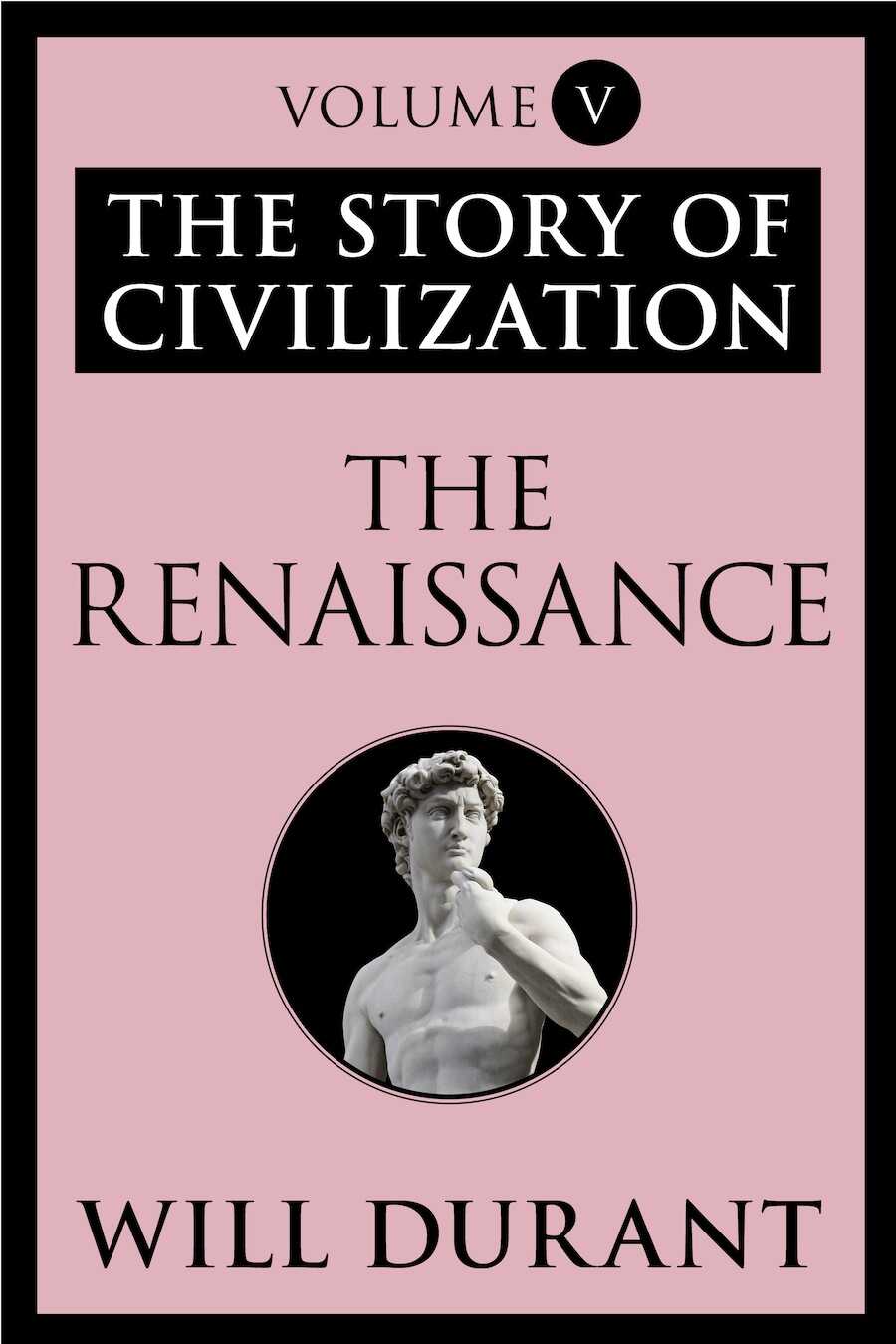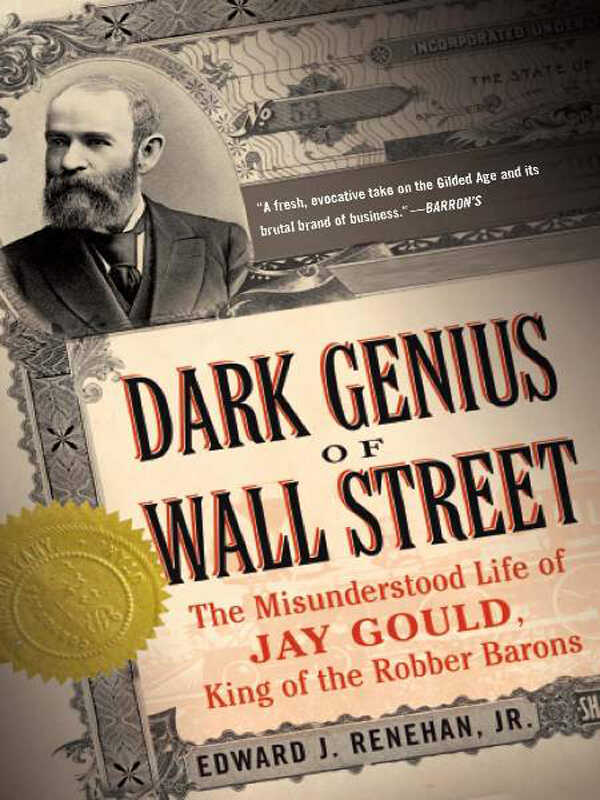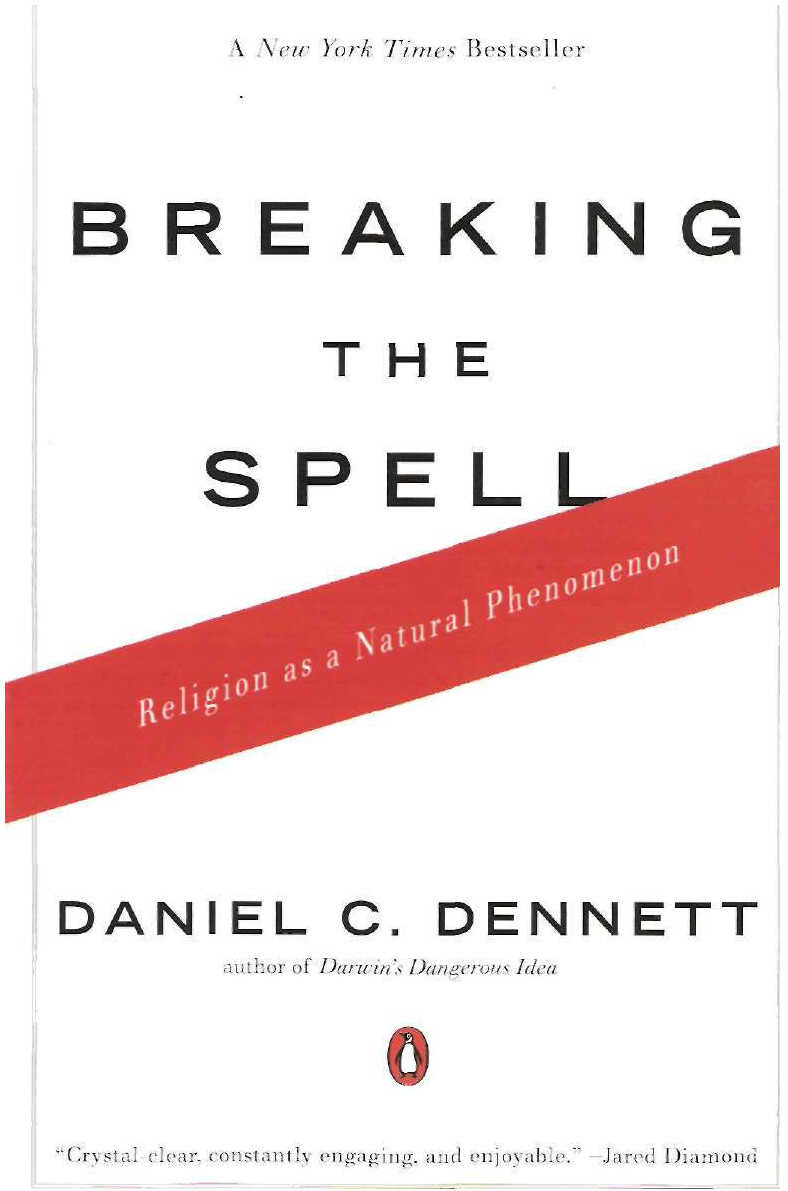Шрифт:
Закладка:
«Руссо и революция» — десятый том «Истории цивилизации». Вокруг выдающейся и загадочной личности Руссо, который закрутил водоворот идеологии, как левой, так и правой, авторы в ярком повествовательном стиле воссоздают рост интеллектуального, морального и политического инакомыслия XVIII века, расцвет и упадок автократического правления, религиозное разочарование и демократические волнения. «Роль гения в истории», «человек против массы и государства» — короче говоря, это великий и непрекращающийся спор, наследниками которого мы сейчас являемся. Галерея полна таких же важных фигур, как и сам исполнитель главной роли: Гете, Джонсон, Вольтер, Екатерина и Фридрих, Моцарт, Кант, Рейнольдс. Военные подвиги, элегантность и развращенность придворной жизни, разнообразие культурных, экономических и социальных событий, предрассудки и нравы всей европейской сцены — несомненно, показателем всестороннего мастерства Дюранов является то, что эта обширная панорама была создана с таким количеством великолепно переплетенных эпизодов, продуманных до мелочей.