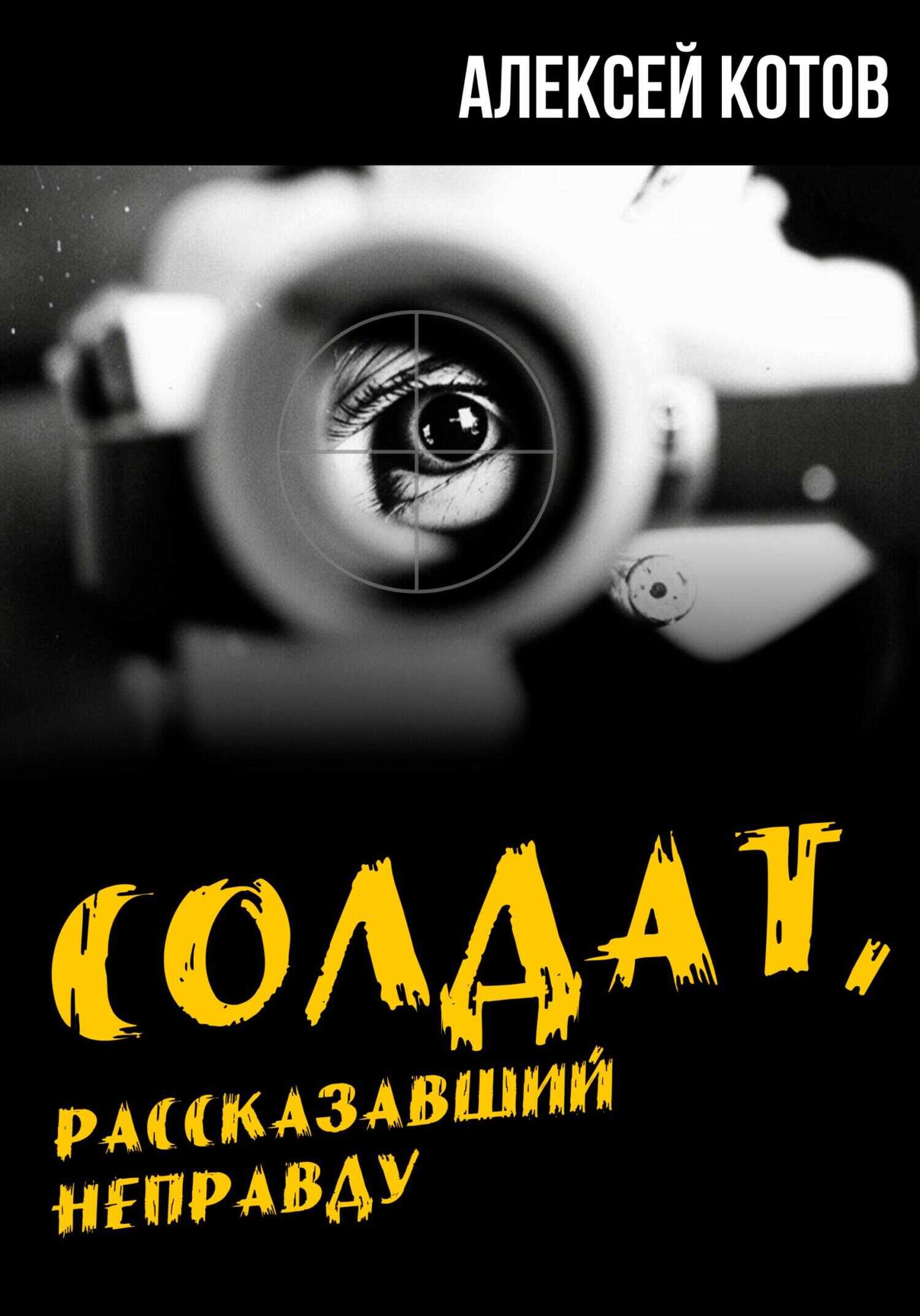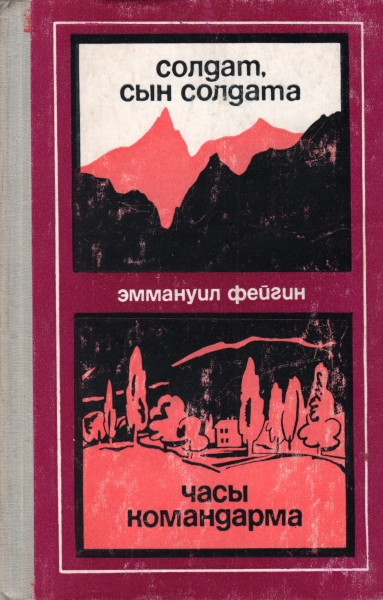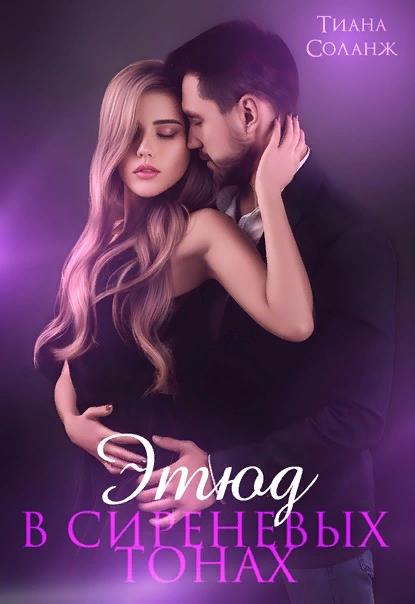Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В детстве я слышал много рассказов о войне, и в них не было ничего парадного. Удивительно, но в них было и не так много самой войны… Уже теперь, спустя много лет, я смотрю на рассказы бывших фронтовиков совершенно иначе.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алексей Николаевич Котов»: