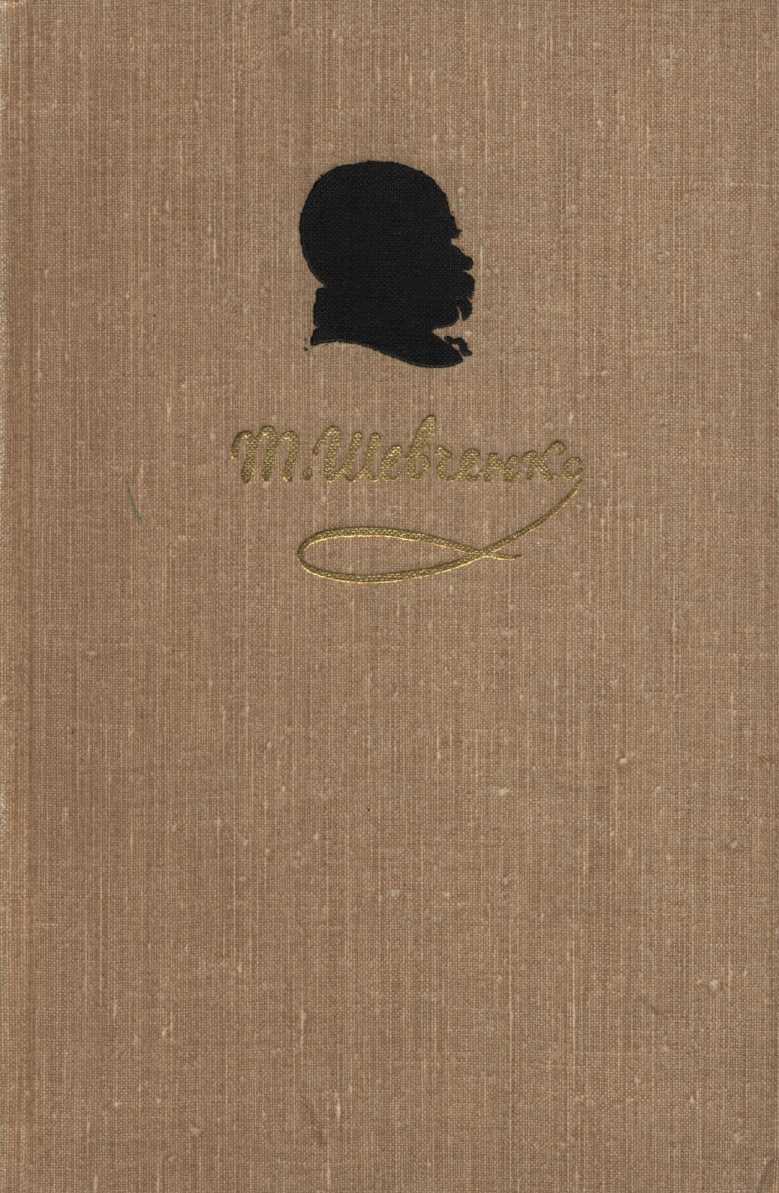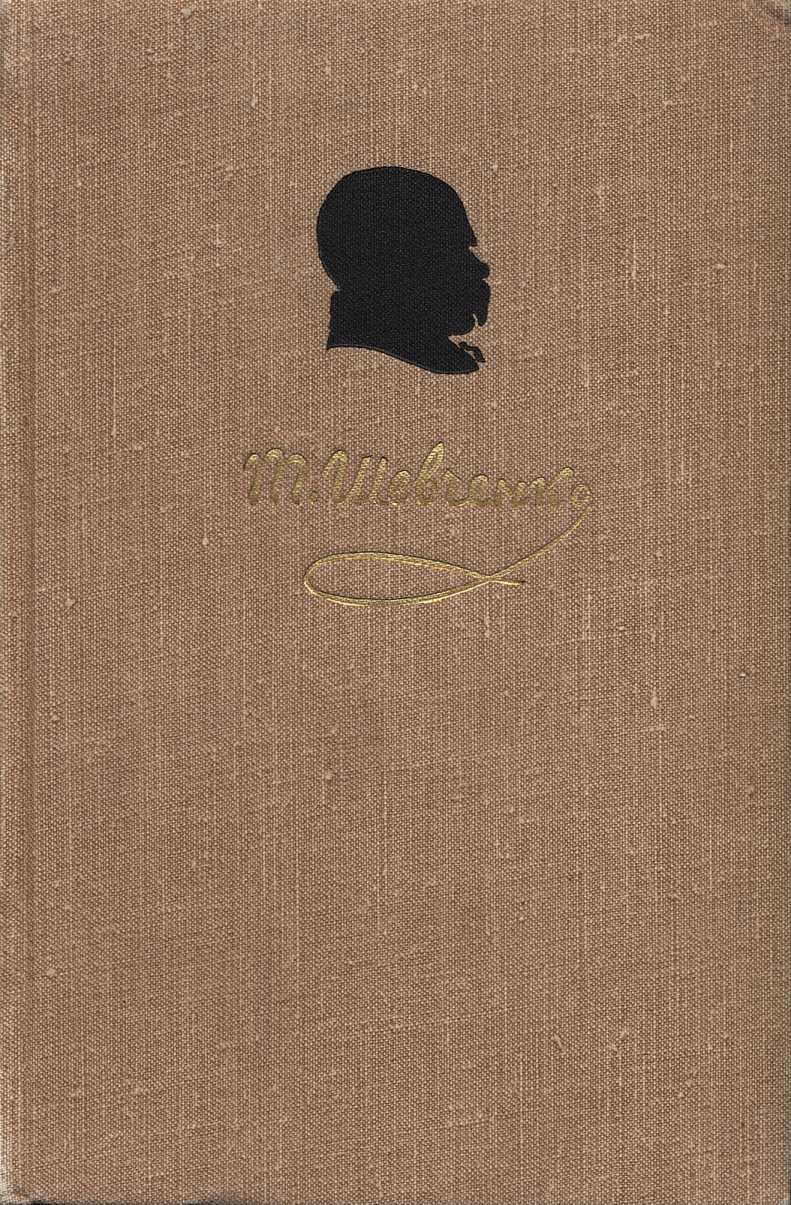Шрифт:
Закладка:
В сборник малой прозы Игоря Белодеда вошли рассказы с нетривиальным набором персонажей: умирающий кот; пенсионер, живущий на злобе и ненависти как на топливе; учитель с деменцией; эмигрантка из квартала красных фонарей; девушка, находящаяся в деструктивных отношениях с отцом; патологоанатом; человек, столкнувшийся с собственным доппельгангером. Все они будто находятся в узком зазоре между двумя альтернативами: горем и счастьем, разумом и безумием, жизнью и смертью.Теплый сентябрьский свет скрадывал уродства старости, стушевывал ее фигуру и, казалось, приближал бело-содалитовое небо к зрачкам, так что те сужались в толстые поперечные линии, плывшие корягами в голубом белке.Для когоДля тех, кто любит актуальную прозу, написанную в классическом уже каноне: одновременно современную и наследующую модернистским традициям.Утро было глазом, рот – изодранные облака, вставай, не бойся, алые ногти на пальцах – залог легкого поведения, что если ленту зажует – туда-сюда – сколько вам лет? семнадцать? – рот, белый мел, перед зевотой страха, как будто кто-то боится с самого Эос – казеннокудрая, сказал он, бровь утекла, как гусеница, в душе на зеркале рисовал чибисов, разбирался в птицах, ей казалось, он старше на время.