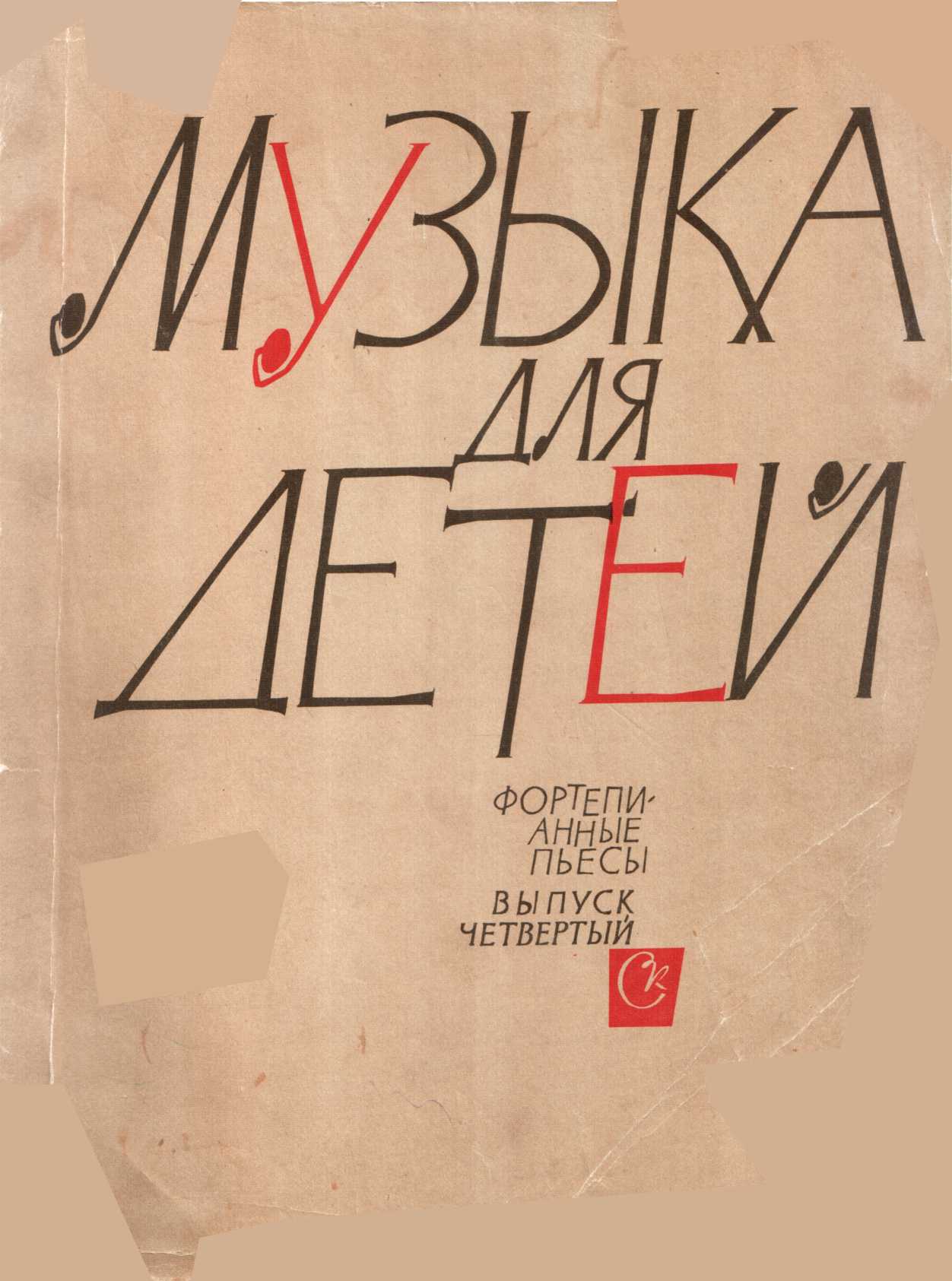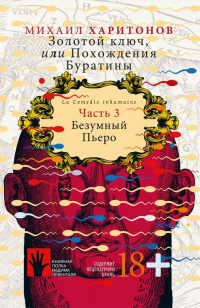Шрифт:
Закладка:
Обучение художественному письму – область культуры, восходящая корнями к античности, но получившая институциональное воплощение только в XX веке. Оно часто вызывает недоверие и иронию со стороны академического сообщества, однако оно же дало толчок к развитию филологии, снабдив исследователей новой оптикой и новыми инструментами анализа, которые позволяют увидеть сочинение художественного текста с точки зрения пишущего. Этот сборник вводит в российское поле гуманитарных наук новое научное направление – creative writing studies, в русской версии – «исследования литературного образования». Авторы затрагивают в своих статьях широкий круг проблем и тем, которые можно считать частью creative writing studies и которые помогают очертить границы направления: от педагогических практик, изучения писательских институций, вопросов статуса писателя и художественной литературы в обществе до социологии и экономики творческого письма, а также последствий развития литературного образования для самой литературы. Сборник состоит из трех разделов: первый посвящен истории становления творческого письма в период с ХVIII до ХX века, второй – отдельным аспектам его теории, а третий – вопросам перевода.