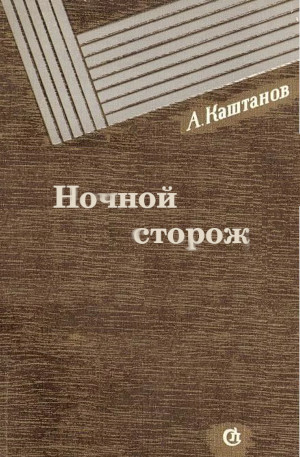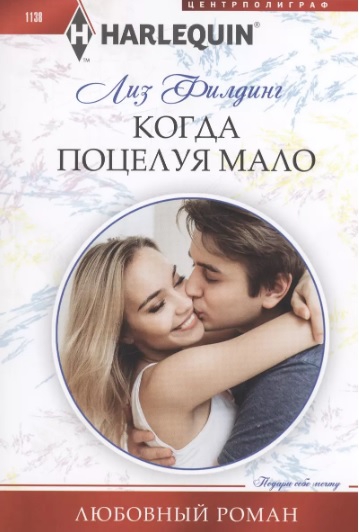Шрифт:
Закладка:
Ночной сторож - это захватывающий детективный роман от Арнольда Львовича Каштанова, мастера жанра. Книга рассказывает о том, как ночной сторож одного из московских бизнес-центров становится свидетелем убийства, которое совершает загадочный человек в черном. Сторож решает самостоятельно разобраться в этом деле, не доверяя полиции, и попадает в водоворот опасных событий, связанных с коррупцией, мафией, шпионажем и терроризмом. Кто такой человек в черном и зачем он убивает? Какие тайны скрывает бизнес-центр и его посетители? Кому можно доверять, а кому нет? Эти и другие вопросы будут мучить сторожа и читателя до самого конца книги.
Если вы хотите прочитать эту книгу онлайн, вы можете посетить сайт knizhkionline.com, где вы найдете множество других интересных и полезных книг разных жанров и направлений. На сайте knizhkionline.com вы можете читать книги бесплатно и без регистрации, а также оставлять свои отзывы и комментарии. Не упустите свой шанс погрузиться в мир литературы с knizhkionline.com!