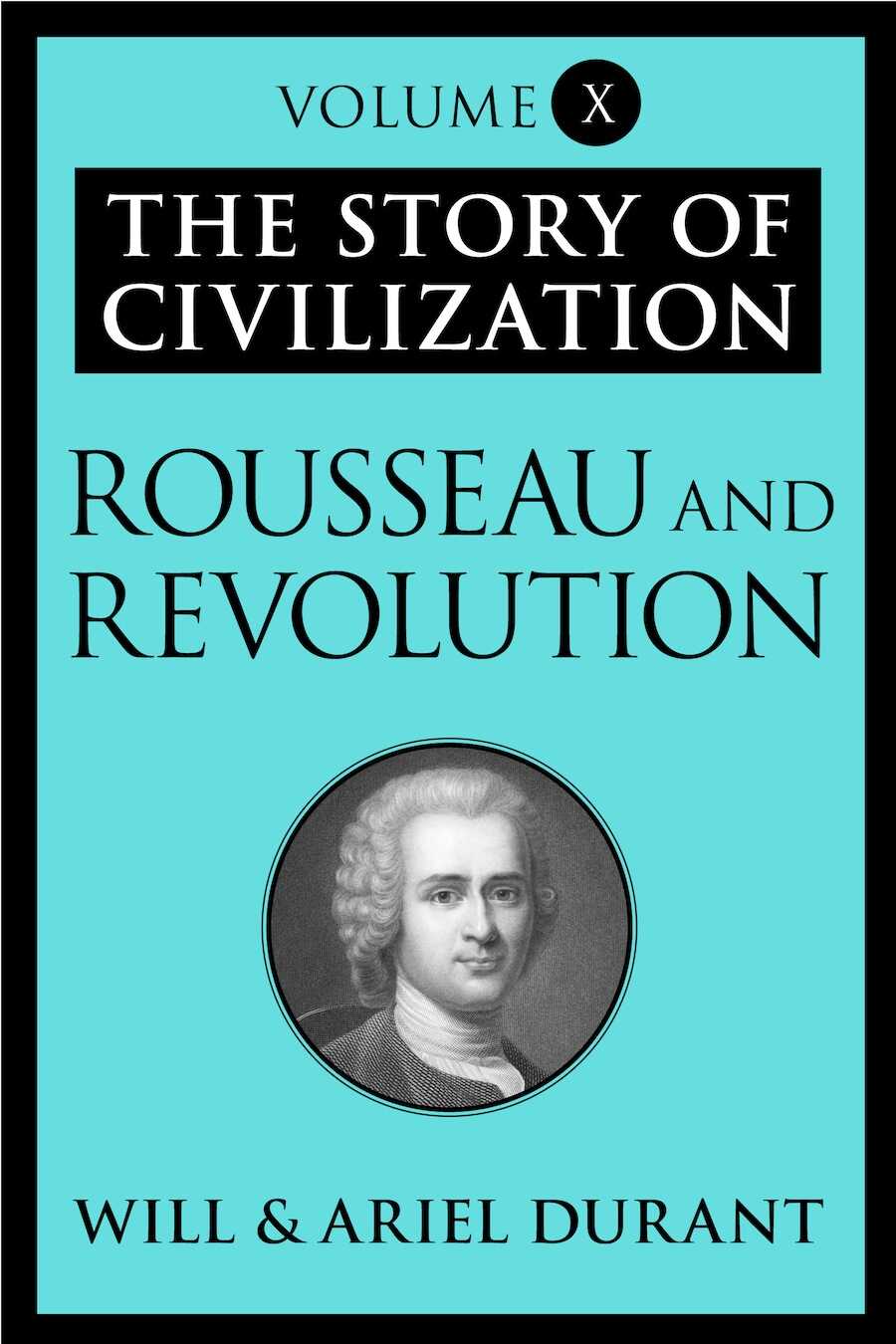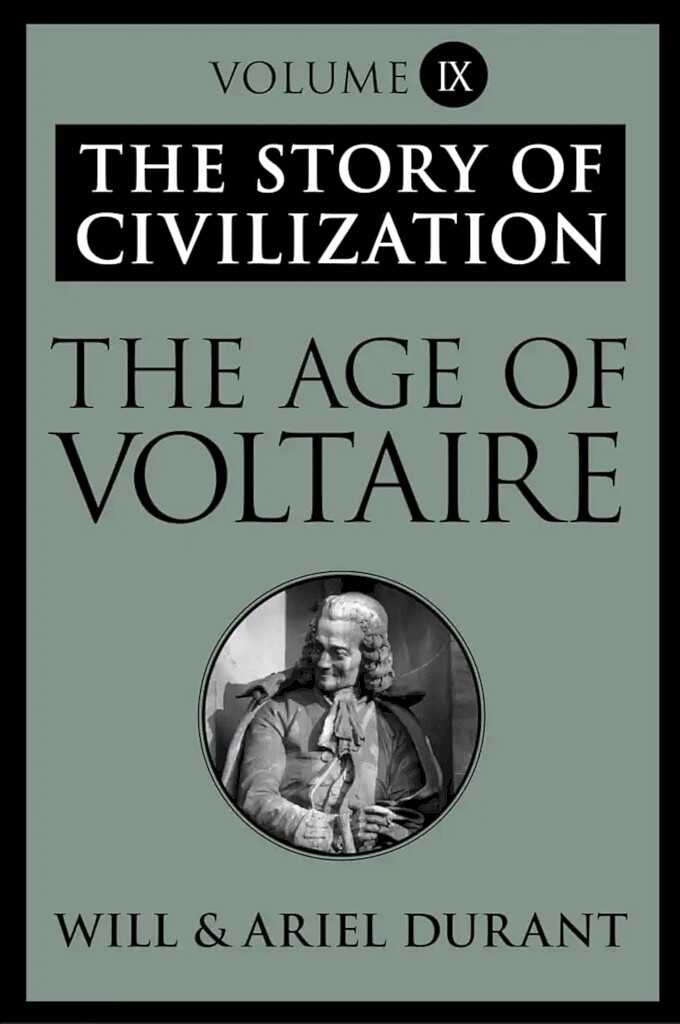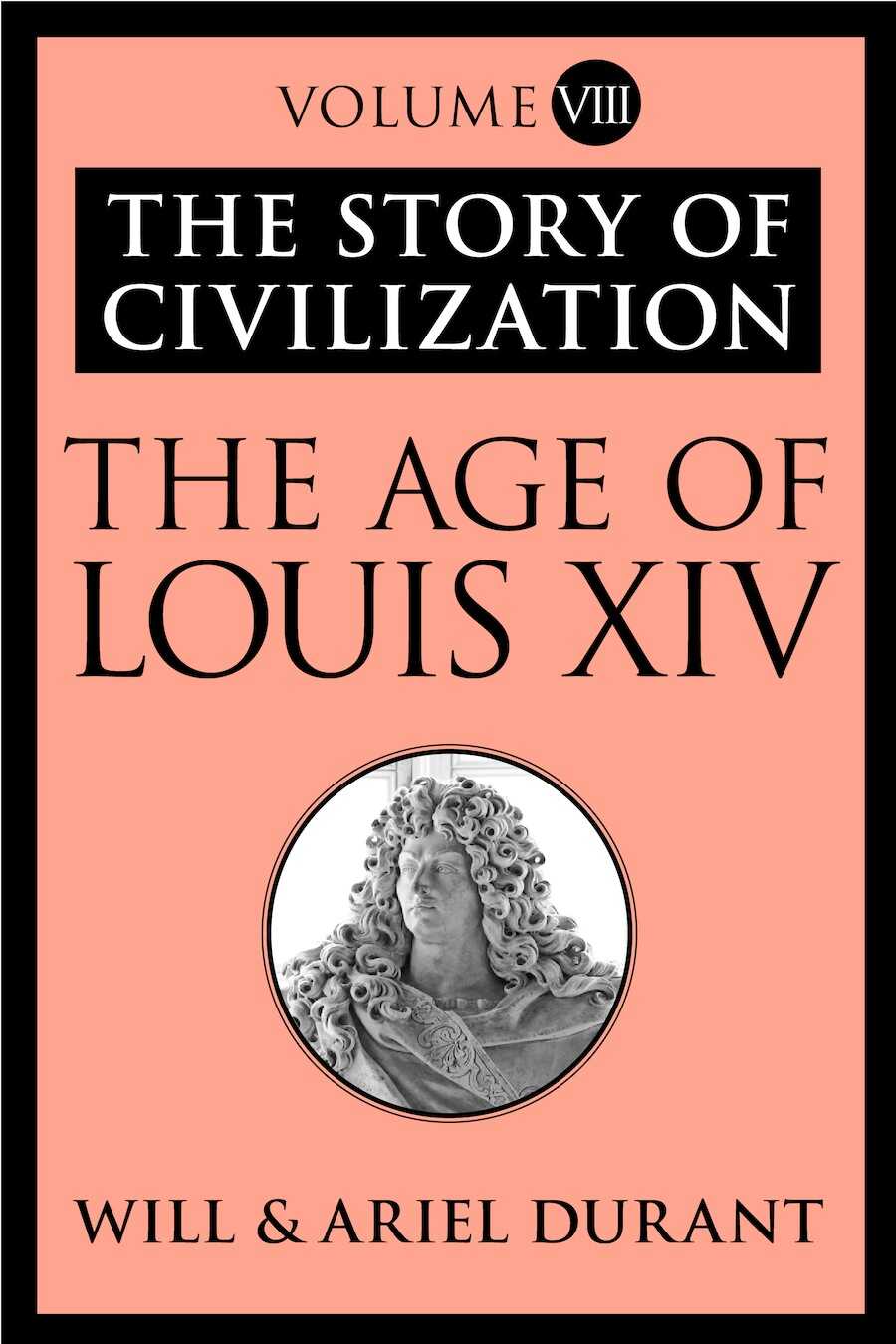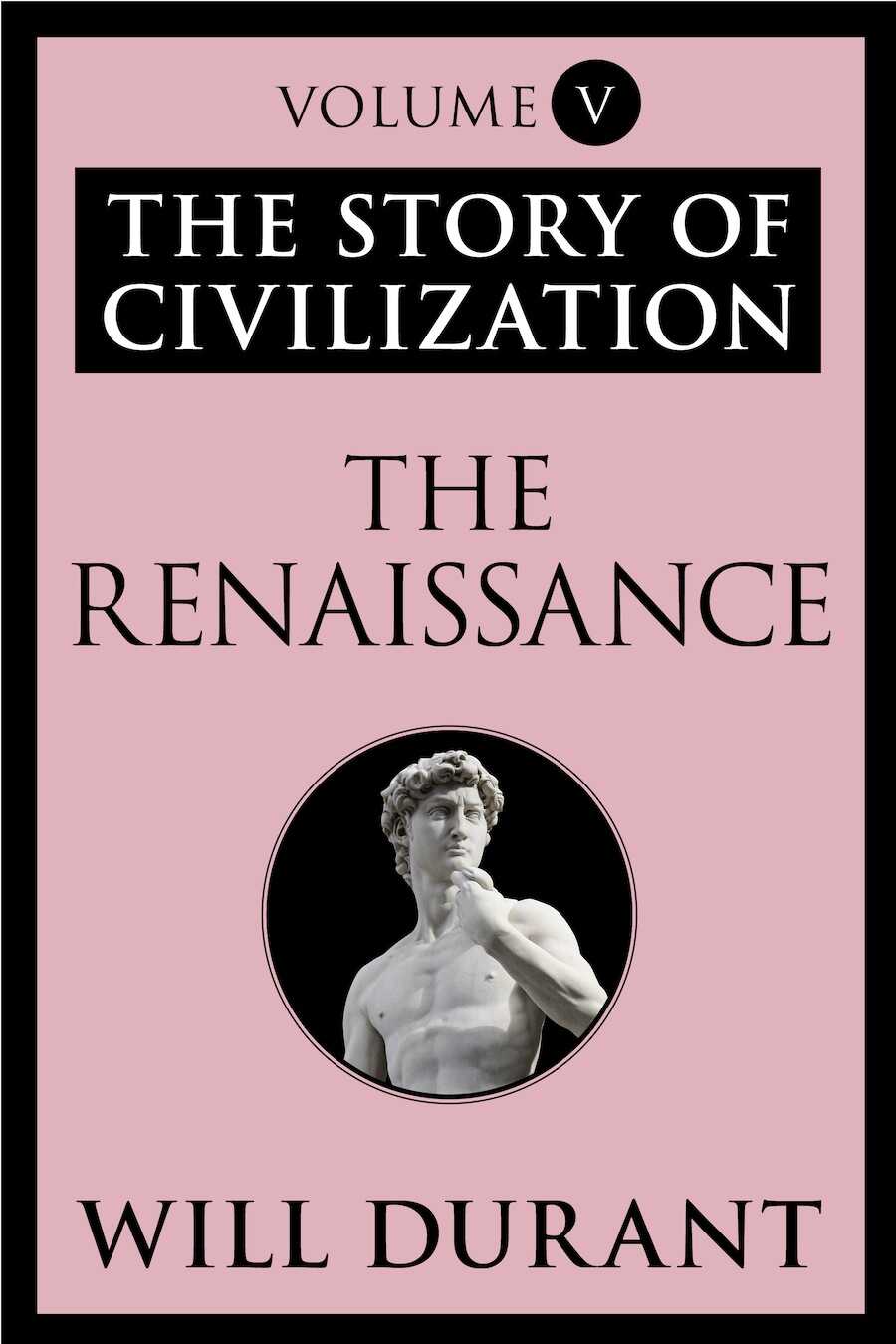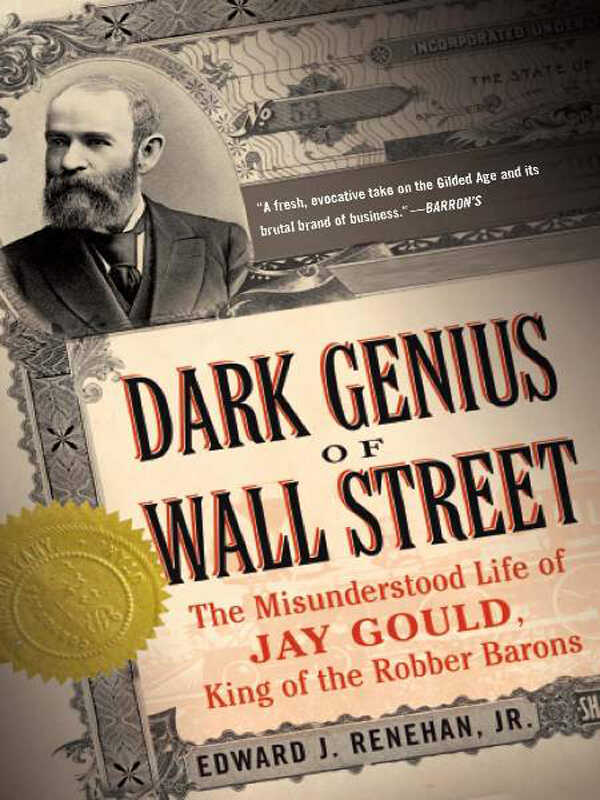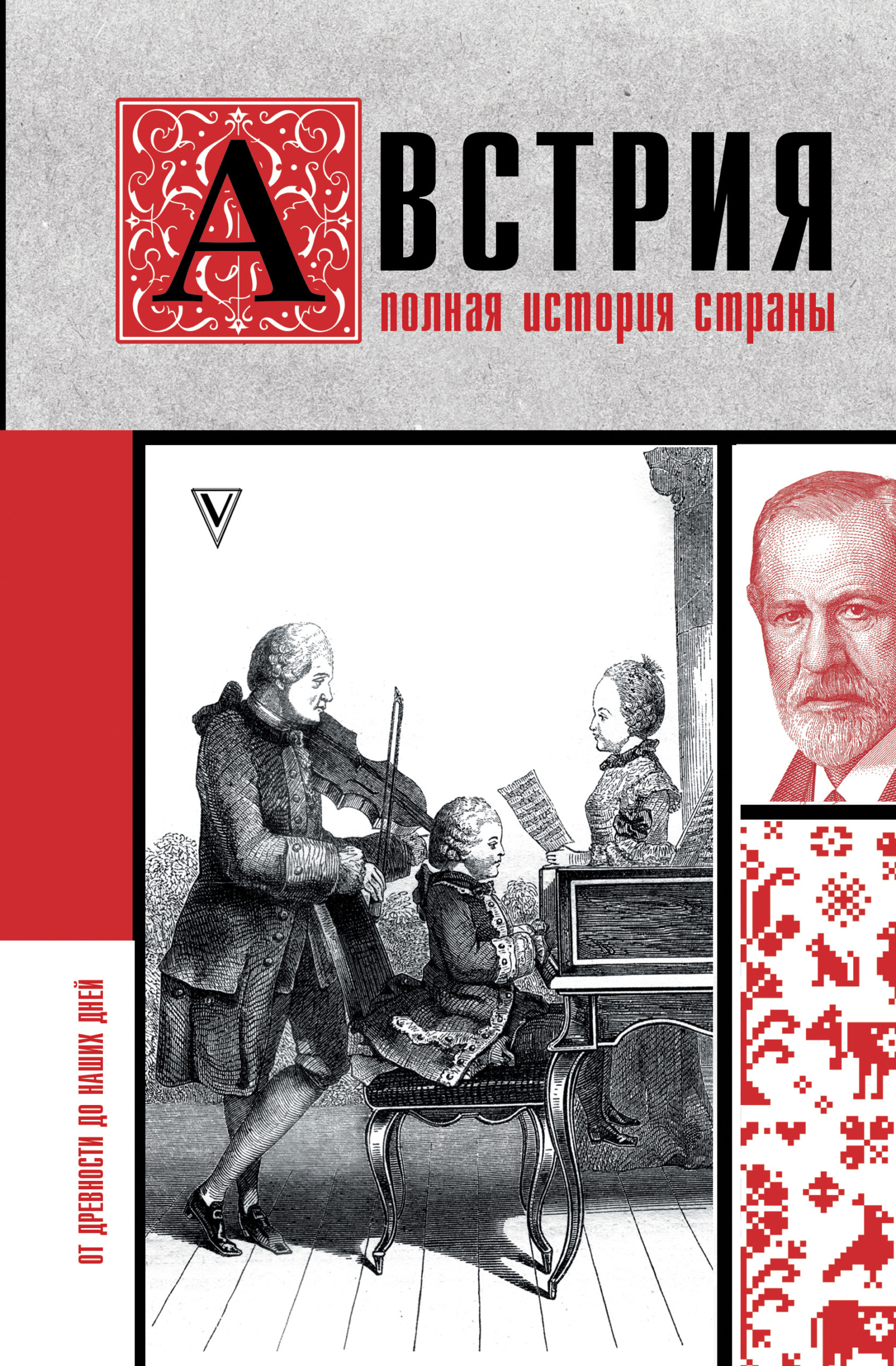Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Век Наполерна» — одиннадцатый том «Истории цивилизации». В нем описывается удивительная цепочка событий, которые вырвали Европу из эпохи Просвещения в эпоху демократии. В этом мастерском произведении читатели познакомятся с Французской революцией и ее лидерами Дантоном, Демуленом, Робеспьером и Сен-Жюстом; стремительным взлетом Наполеона от провинциального корсиканского курсанта до императора и командующего крупнейшей армией в истории; падением Наполеона — гибелью его армии в снегах России, его изгнание на Эльбу, его побег и отвоевание трона, а также его окончательное поражение при Ватерлоо; и зарождение романтизма, и наступление новой эры активной демократии, и рост среднего класса.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Уильям Джеймс Дюрант»: