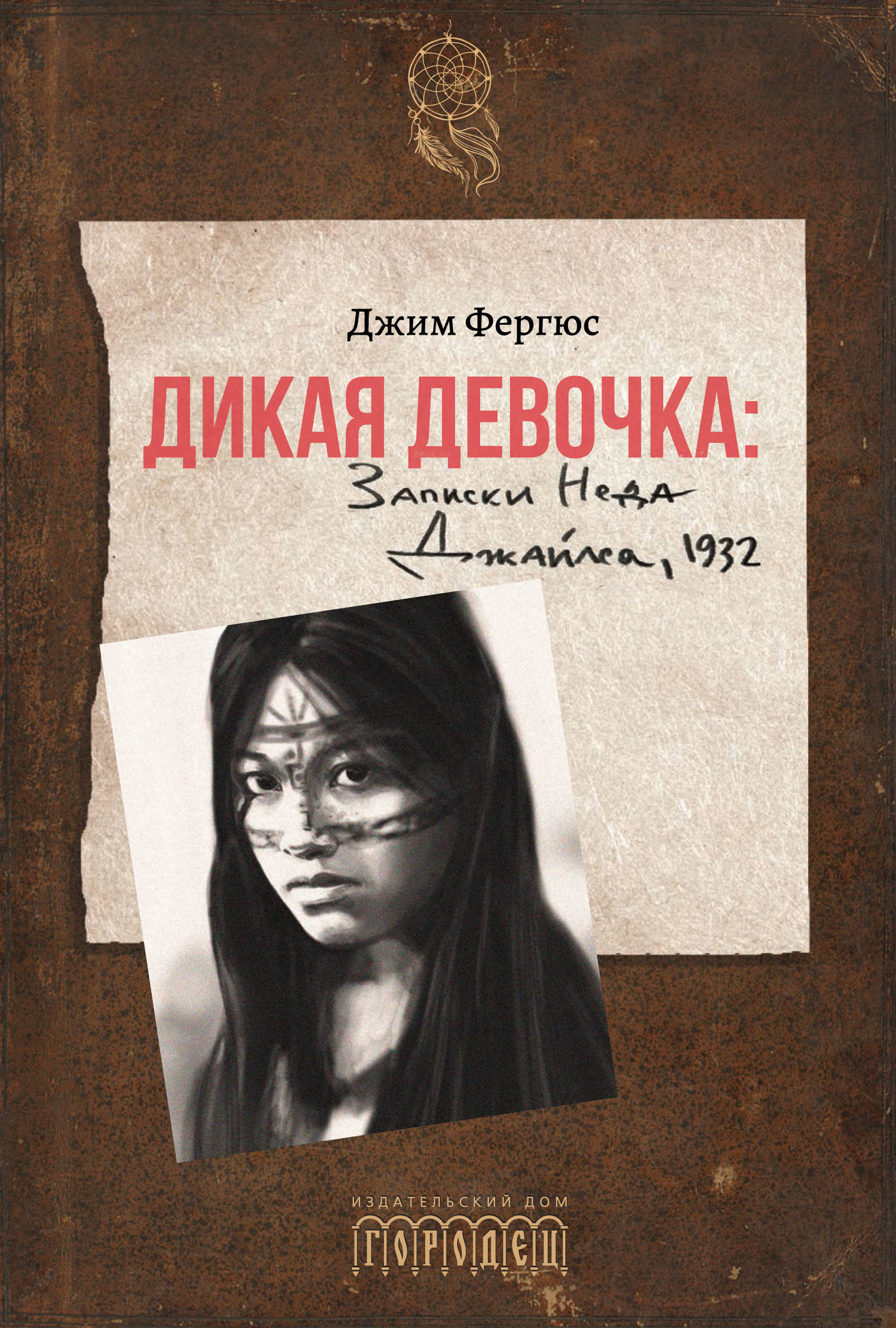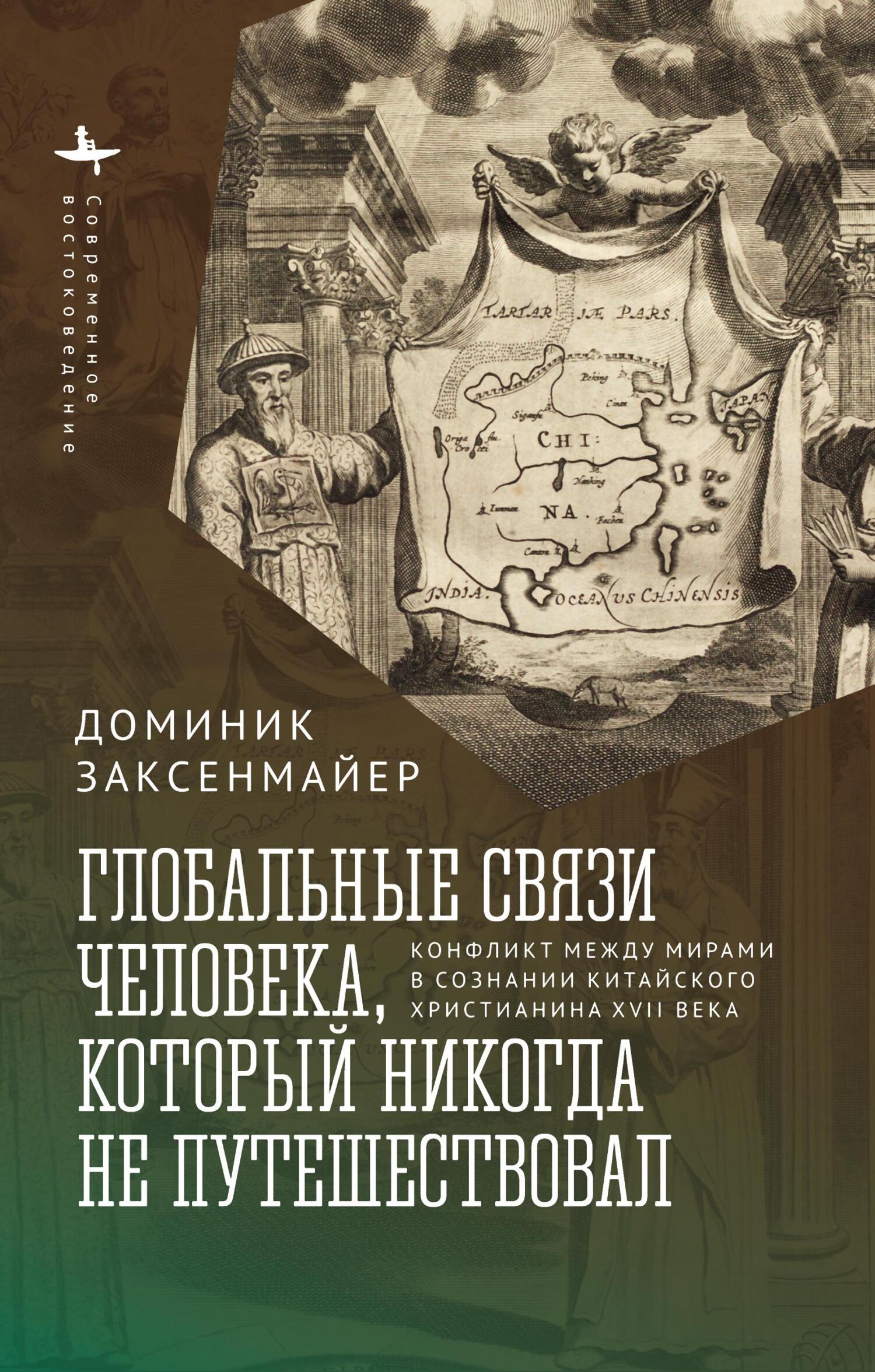Шрифт:
Закладка:
Книга «Дикая девочка. Записки Неда Джайлса, 1932» Джима Фергюса — это исторический роман, основанный на реальных событиях, произошедших в Сьерра-Мадре в 1932 году. Главный герой книги — Нед Джайлс, 17-летний фотограф-любитель, который участвует в экспедиции по поиску похищенного индейцами-апачами мальчика. В ходе экспедиции он знакомится с дикой девочкой-апачем, которая становится его пленницей и любовью. Но их отношениям угрожает опасность со стороны белых и красных, которые хотят использовать девочку для своих целей.
Книга «Дикая девочка. Записки Неда Джайлса, 1932» — это захватывающий рассказ о приключениях, страсти и жертве на фоне жестокой и красивой природы Мексики. Это книга для тех, кто любит историческую литературу с элементами романтики, мистики и вестерна. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир «Дикой девочки»!