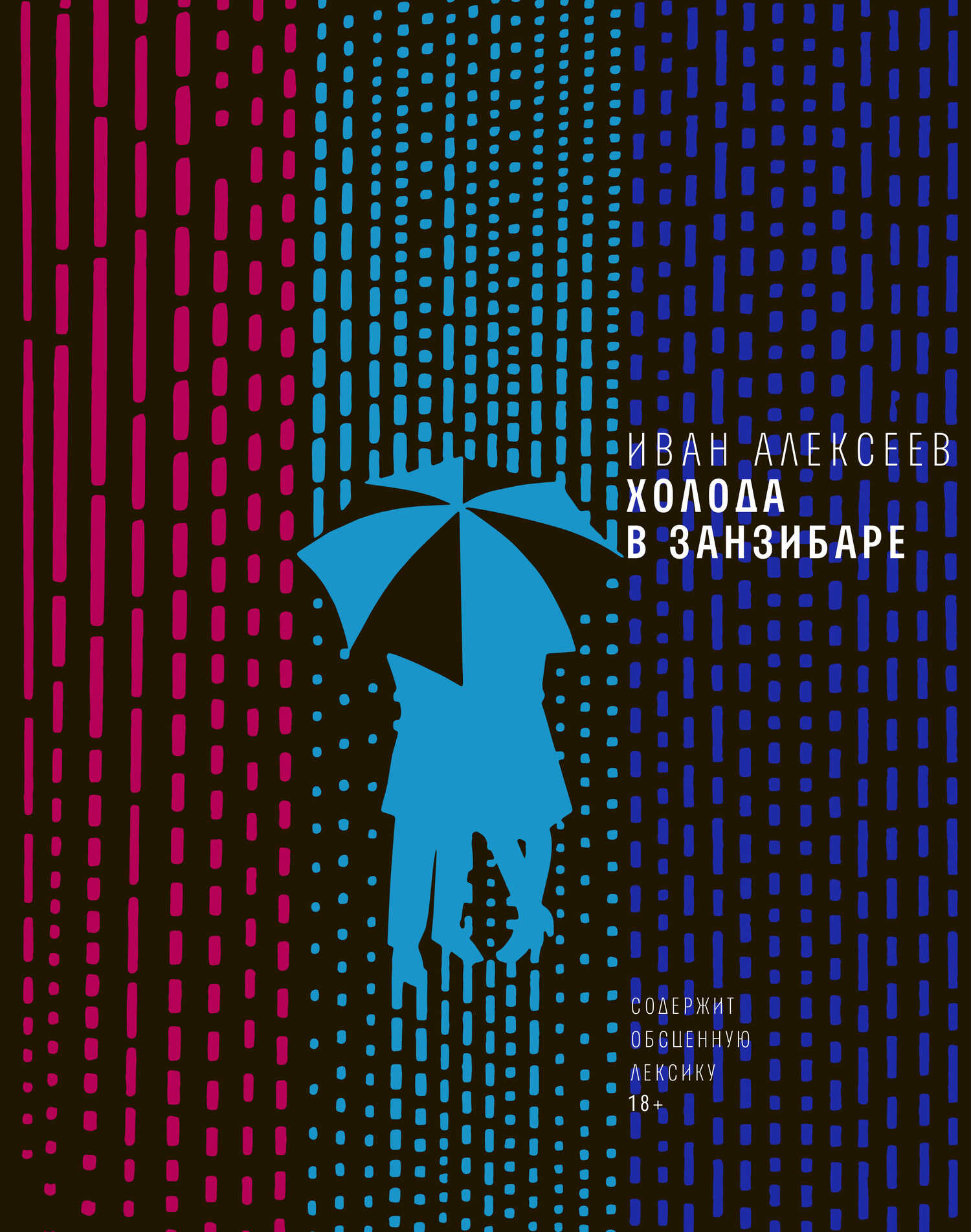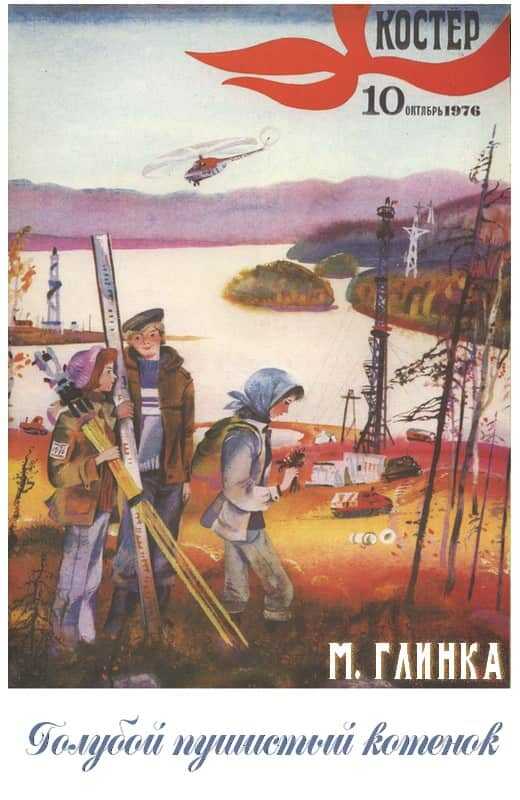Шрифт:
Закладка:
В ресторане было накурено и приторно пахло ванилином; он занял место у окна, спросил водки и теперь не отрываясь смотрел, как двинулся назад вокзал, как медленно поворачивает голову жандарм, как быстро редеет, будто просеивается через сито, толпа, как размашисто шагает, размахивая вскинутой вслед поезду рукой, бородатый мещанин и все больше отстает; вот потянулся скучный одноэтажный городок, на него углом стал наползать лес и вскоре и вовсе закрыл.
– Муром, – тихо сказал Василий Андреевич и снова повторил это сказочное имя, с которым отныне было связано что-то хорошее.
От водки сделалось тепло и спокойно; стук колес, однообразное мелькание деревьев с покрасневшими на закате вершинками, дым, клубами застревавший в придорожных кустах, позвякиванье посуды на столах – за всем этим, казалось, скрывается прекрасная и страшная истина, в которой – тайна самой жизни; казалось, лишь тоненькая бумажная перегородка отделяет от нее, лишь протяни руку, и она горячо забьется в ладони, как пойманный птенец: «Боже мой, противный мальчишка, ну что ты со мной делаешь!»
Василий Андреевич выпил одну за другой две чашки кофе, расплатился и длинным, с множеством дверей и окон, коридором, спотыкаясь на грохочущих переходных площадках, пустился в обратный путь.
В купе было тихо и сумрачно; Кольпицкий, привалясь к стене, дремал, сложив руки на животе; поручик и Ольга Петровна сидели за столиком друг против друга, и тот объяснял, выкладывая карты, какой-то сложный пасьянс; рама окна была приспущена, хлопала занавеска, завитки на смутно белевшем виске нежно трепетали; Ольга Петровна сказала с упреком:
– Куда же вы запропастились, Васенька? Мы уже успели соскучиться.
– Да вот, как-то… – развел руками Василий Андреевич, и лицо его расплылось в улыбке. – Как-то вот так…
Он присел на диван и, все продолжая улыбаться, смотрел на Ольгу Петровну: ее склоненный профиль на фоне вечеревшего окна, ее маленький, с зажатым белым платком кулачок, подпиравший точеный подбородок, ее выпуклый, мерцающий белком глаз – все это было непереносимо хорошо; казалось, что внятен даже неуловимый фиалковый запах платка.
– Валет сюда, король ушел, а вот куда прикажете деть шестерку, чтоб ей пусто было?
– А вот же, сюда! – воскликнула Ольга Петровна и, выбросив руку, быстро переложила карту.
– Превосходно, – одобрил Вагин, – теперь мы можем передвинуть и этого туза. Именно так!
– И вот так! – засмеялась Ольга Петровна.
Мелодичный смех Ольги Петровны рождал в Василии Андреевиче сладкую томительную дрожь; странная смесь тревоги и счастья распирала грудь и просилась наружу бессмысленным животным криком: «Боже мой, противный мальчишка, ну что ты со мной делаешь!» И глухой выстрел из револьвера промозглой осенней ночью.
Василий Андреевич опустил глаза, увидел – сначала равнодушно, как посторонний, которому нет дела до чужой беды, – что из ширинки выбился белый угол рубахи. «Кончено», – будто бы сказал кто-то невидимый; сердце замерло, да так и стояло, пока Василий Андреевич судорожно запихивал назад гадкий клочок полотна, все отчетливей и бесполезней понимая, что это – случайно выпавший из руки Ольги Петровны, надушенный фиалкой платок. И откуда-то из бесконечной дали на него смотрели расширившиеся от ужаса влажные глаза.
Он сошел на неизвестной темной станции, жадно закурил; под единственным на площади фонарем стояла пролетка; на козлах, сгорбившись, дремал извозчик. Был долгий подъем в гору среди спящих тихих домов, гулко звучала мостовая, отдаваясь в мертвых окнах; у вздымавшейся, как скала, церкви свернули и вскоре встали у плохо освещенного подъезда. Гостиница воняла керосином, плохо подкрученные фитили ламп коптили; заспанный лакей проводил в душный, с холодной печью нумер и тотчас исчез. Василий Андреевич, не раздеваясь, бросился на кровать лицом в подушку и дал волю слезам. «Ибо этот старый Бог не жив более: он основательно умер». Так говорил Заратустра, забирая с собой прошлую жизнь и даря надежду. Плечи студента тряслись все тише, тише, он заснул, и дыхание его было чистым и сильным, а ВѢКЪ был еще совсем юный – с прозрачными усиками над мягкой губой и прыщиками на подбородке.
Костюм
Однажды утром Алеша проснулся и узнал, что в доме появился отрез[7] из чисто английской шерсти, цвета вишни со сливками.
Идея нового костюма возникла давно и созревала по мере готовности папиной диссертации. Из обрывков разговоров родителей Алеша знал, что три главы готовы полностью, их вполне достаточно для защиты, но папа хотел написать четвертую.
– У Бори болезнь совершенства, – любила повторять мама.
Машинистка звонила по нескольку раз в день – боялась согрешить в терминологии. Под аккомпанемент ее звонков шли поиски портного.
Оказалось, что хорошие портные на дороге не валяются, ими дорожат, ими не разбрасываются, и потому легкая добыча вызывала сомнение – не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: одно неосторожное движение ножницами, и мечта зарезана на корню.
Как-то Алешины родители вернулись в приподнятом настроении.
– Ты заметил, какие у него замечательные глаза? И потом он обшивал Молотова с Кагановичем. Одна кривая строчка, и сгнил бы в лагере, – говорила мама.
– Положим, про политбюро он мог и приврать.
– А я ему верю, – не соглашалась мама. – И ты ему понравился. Хорошая фигура для портного то же, что хорошие анализы для врача.
Мама гордилось спортивной фигурой отца.
Портного Алеша увидел две недели спустя, когда они с мамой привезли пуговицы для костюма. Жил он где-то у Красных Ворот, в большой коммуналке с длинным полутемным коридором – звонить ему нужно было четыре раза. Это был невысокий старик с полным лицом, с кустами седых волос в ушах и в носу, за толстыми стеклами очков плавали глаза, как рыбы в аквариуме. Маму он называл деточкой, и, конечно, на шее у него висел клеенчатый метр. Посредине комнаты стоял большой, из листа фанеры, стол, отполированный до блеска и исписанный карандашом, а у стены – две швейные машинки, похожие на слонов. В комнате везде надо было протискиваться боком; пахло чем-то кондитерским и долгой-долгой жизнью.
– Ах, какая прелесть, – говорил портной, разглядывая пуговицы, – просто прелесть, у вас, деточка, хороший вкус.
Говорил он громко, но все время прикладывал к губам палец, показывая, что надо говорить тихо – за стеной соседи, и они обязательно на него донесут.
– Что я нажил, деточка? Эту комнату? Эту мебель курам на смех? Я ничего не имею, кроме болезней и исколотых пальцев! Я шил для правительства