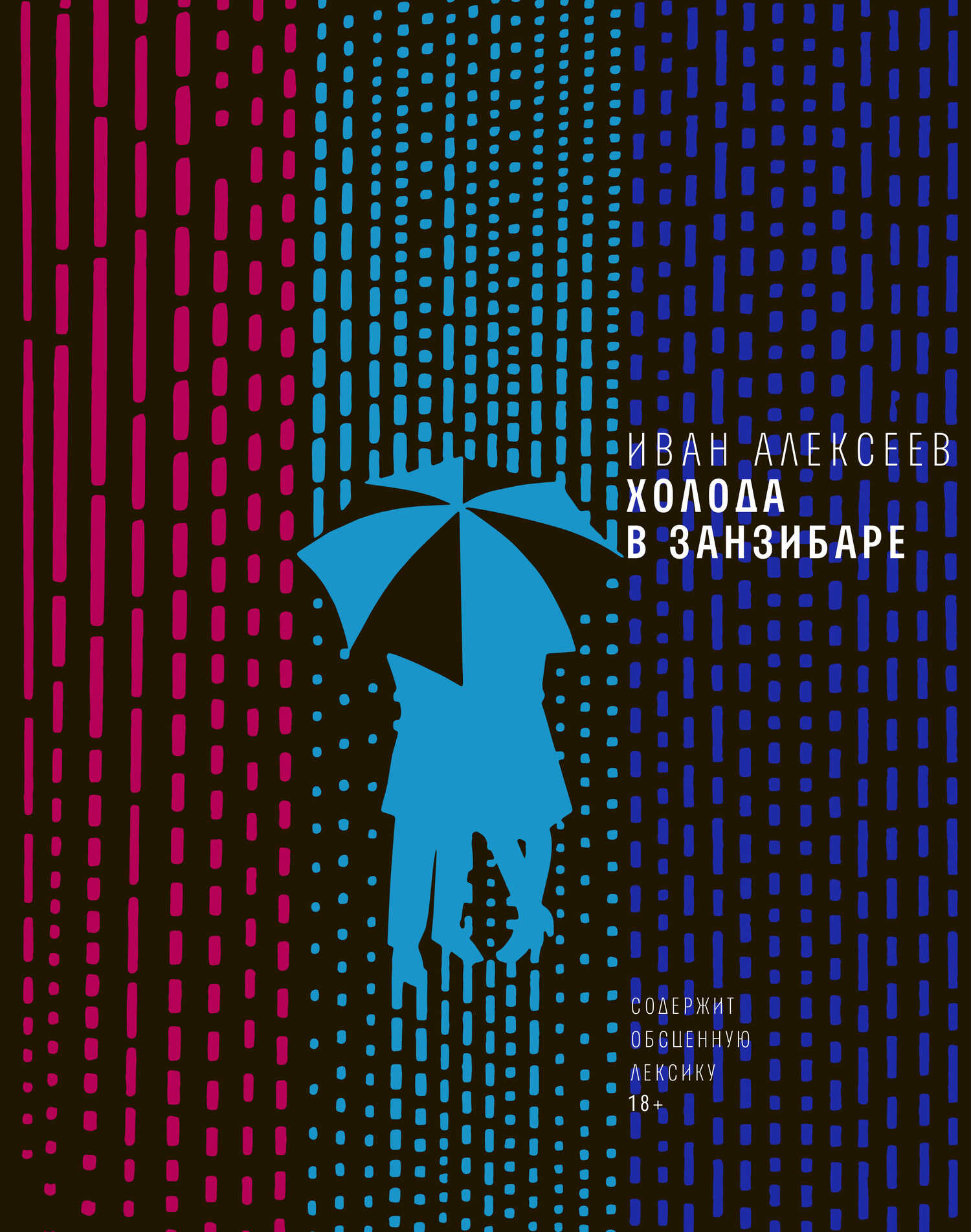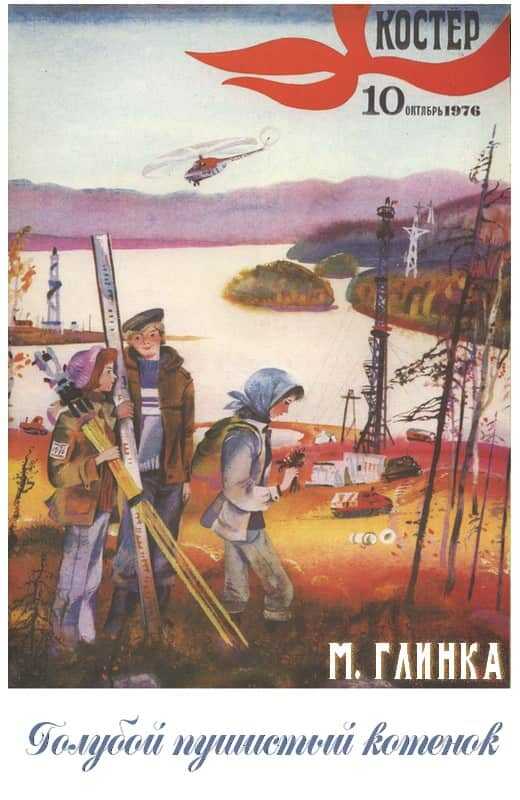Шрифт:
Закладка:
– Любовь, а не война! – закончил докладчик и показал пальцами «V».
«Машина» до ЖЭКа не доехала.
Летом Алеша отправился в стройотряд, на коровник. Горели торфяники, солнце в зените было красным. Деревенские девки к студентам тянулись, иногда им даже удавалось обмануть охрану из местных парней и сбежать, но, когда рука оказывалась у них в трусах, принимались глупо, как от щекотки, хихикать.
В начале третьего курса Пасечник пригласил Алешу в «стекляшку» послушать его доклад о неоплатониках, но в холле неожиданно раздались дребезжащие звуки настраиваемых инструментов – скрежет бас-гитары, визг соло, гулкие удары басового барабана и пробный звон тарелок, – и до аудитории Алеша не дошел. Сначала познакомился с Леной, но стал танцевать с Лизой, думая, что это Лена, – путаницу разрешил вовремя подоспевший и уже отстрелявшийся по докладу Пасечник. Когда отрывались под «Шизгару», Алеша крикнул:
– Знаешь, кто придумал атомную бомбу?
– Нет! – крикнула Лиза.
– А ты никому не скажешь? – крикнул Алеша. – Это государственная тайна!
– Обещаю!
– Я!
Поцеловались у метро «Университет», потом Алеша поехал на «Сокол», провожать, еще час целовались у ее подъезда. Через три дня, в кровати Лизиных родителей, на верблюжьем колючем покрывале – свершилось. Он очень волновался, эрекция то появлялась, то пропадала, и, если бы не терпение и настойчивость Лизы, вполне вероятно, он мог бы и отступиться. Зато во второй раз, через десять минут, у него все получилось как надо, без всяких там волнений. Домой Алеша приехал поздно ночью, очень собою довольный, и маме, которая не спала, дожидаясь его возвращения, сказал, что скоро познакомит ее с одной девочкой.
– Как зовут? – спросила мама, как будто это имело какое-нибудь значение.
С Олей после вступительных он не встретился ни разу, но, когда в конце второго курса узнал, что она выходит замуж, примчался в Печатники, где та жила в бараке с печным отоплением, одна, – мать у нее давно умерла, а отец жил с другой семьей. Он застал ее в некрасивом, заношенном, без верхней пуговицы халате, не предназначенном для посторонних глаз. Оля была растеряна, в глазах страх и обида; она придерживала ворот халата рукой, но, когда ставила чайник, потаенное приоткрылось – мелькнул и спрятался розовый сосок, а кожа поразила белизной. Потом они лежали на кровати, целовались, и Алешиным рукам было позволено все, но вдруг, отвернувшись, Оля беззвучно заплакала.
– Пожалуйста, не надо.
Алеша уехал и никогда больше, даже случайно, с Олей не увиделся – время сдуло ее, как пылинку[15]. И этот же ветер все дальше уносил отцовский костюм – до шкафа два, три, ну пусть четыре шага в тапках со смятыми задниками, но сделать их – невозможно.
Зато, оказалось, можно жениться и размножаться. Уже вовсю шла подготовка к свадьбе, как вдруг вызвали в деканат. Секретарша представила Алешу человеку в коричневом костюме и поспешно вышла из приемной. Человек в коричневом костюме очень удивился, что Алеша так интересуется фашизмом и при этом делает скоропалительные выводы; он предложил подумать три дня и назначил встречу в голубом особнячке на улице Дзержинского.
Телефонные звонки сделались зловещими. Любой разговор казался провокацией. Внутри все обмякло – как вести себя на допросе, Алеша знал из машинописных папиросных листков, но легче от этого не становилось. Первым делом, изорвав в мелкие клочки, он уничтожил десяток своих стихов[16] (жечь не решился, чтобы мама ничего не заподозрила), потом собрал все запрещенное в старый портфель, но на помойку соседнего квартала решился отправиться лишь следующей ночью. Подозрительно припозднившиеся пешеходы вынуждали несколько раз пройти мимо цели, и сердце едва не выпрыгнуло из груди, когда он наконец избавился от опасного груза[17].
В застеленных красными коврами коридорах было пустынно и тихо, звук каблуков выходил по-кошачьи приглушенным. Под портретом Дзержинского человек в коричневом костюме показался в полтора раза мельче себя прежнего.
– Ну как, будем сдаваться Гитлеру или еще повоюем?
Человек в коричневом костюме насладился Алешиными смятением и растерянностью и вдруг спросил, наберется ли у него стихов на книжку. Алеша сказал, что ему еще надо много работать над формой и стихотворной техникой и что публиковаться еще рано.
– Может, кому-то и рано, а тебе – в самый раз, – сказал человек в коричневом костюме и вдруг наизусть процитировал первые строчки стихотворения, которое когда-то похвалил Кенжеев: «Каникулы, тринадцать лет, калитка в лес и четкий след в грязи велосипедной шины…» Прелесть! Просто музыка! – человек поцокал языком, смакуя. – Молодец! Между прочим, Евтушенко начал печататься в девятнадцать, и, как видишь, результат налицо.
Если он знал это стихотворение, значит, знал и другие. Спина и ладони у Алеши тотчас сделались мокрыми.
– Меня посадят, если я откажусь? – спросил Алеша.
– Ну зачем же вы о нас так плохо? Мы за здорово живешь не сажаем.
Только сейчас Алеша заметил, какие странные у человека в коричневом костюме ушные раковины, будто пришитые с чужой, мертвой головы.
– Я… могу идти?
– Можете. Идите! Идите!
Оттого что не посадили, Алешу накрыло чувство вины такой силы, что сделалось трудно смотреть в глаза даже своим близким. Нечистая тайна выпачкала все внутренности – печень, сердце, почки и что там еще есть. Казалось, за каждым твоим шагом наблюдает кто-то невидимый и в любой момент может положить руку тебе на плечо[18].
Женился Алеша, несмотря на протесты новых родственников, – в джинсах.
За все студенческие годы он так и не наградил себя примеркой отцовского костюма, а потом и вовсе о нем забыл. Мама снова вышла замуж – за Сергея Аполлоновича (свадьбы почти совпали), и Алеша переехал жить в квартиру Лизиных родителей, оставив костюм в своем старом доме.
Было и закончилось.
В лаборатории, куда распределился Алеша, на стене висела копия плаката времен войны «НЕ БОЛТАЙ!» и выполненный на ЭВМ с помощью буквы «О» знаменитый портрет Эйнштейна с высунутым языком; начальника звали Александром Петровичем, он знал наизусть «Двенадцать стульев», не любил балеты Хачатуряна и, выходя на пять минут, запирал, гремя связкой ключей, сейф со спиртом; как-то раз, засидевшись