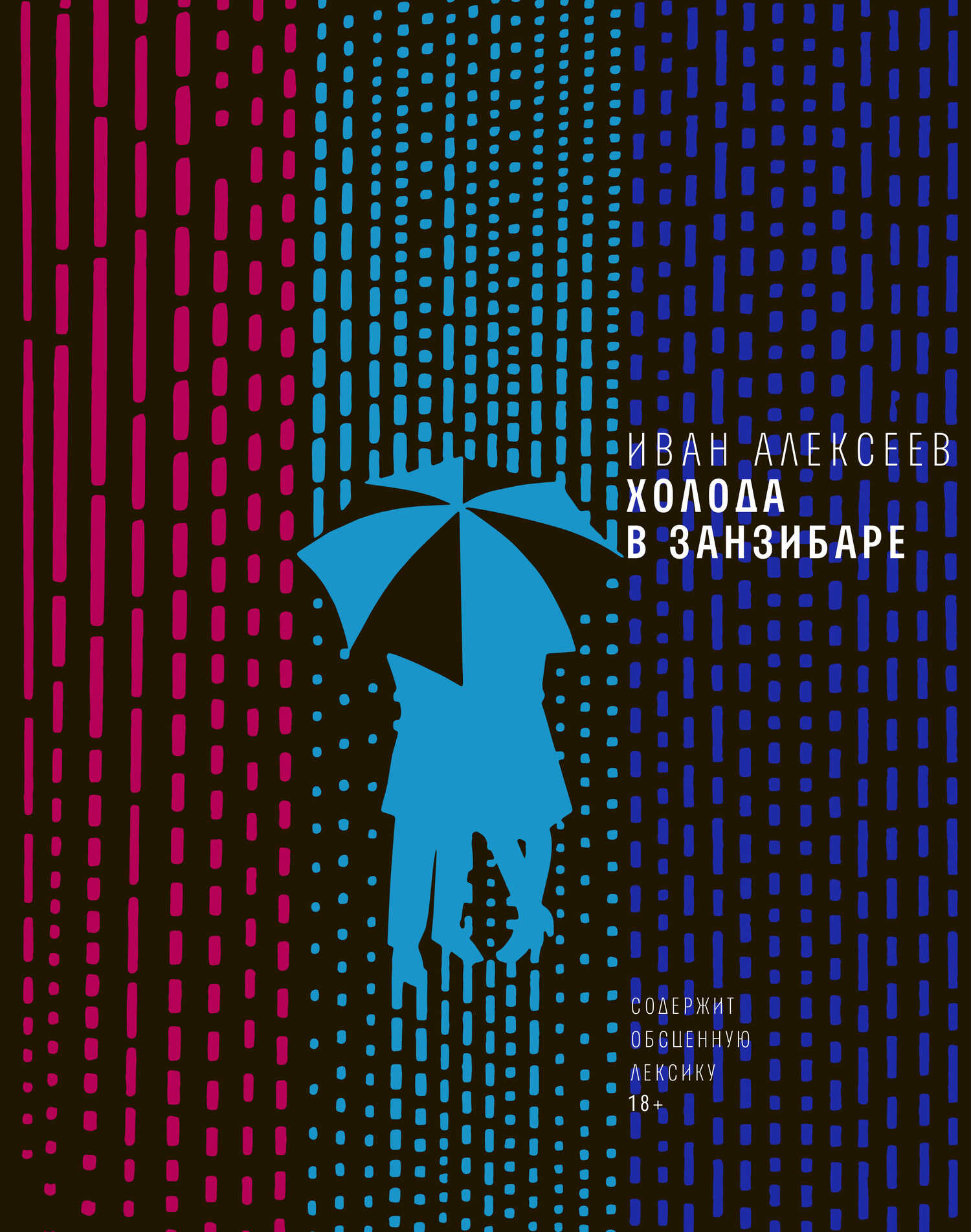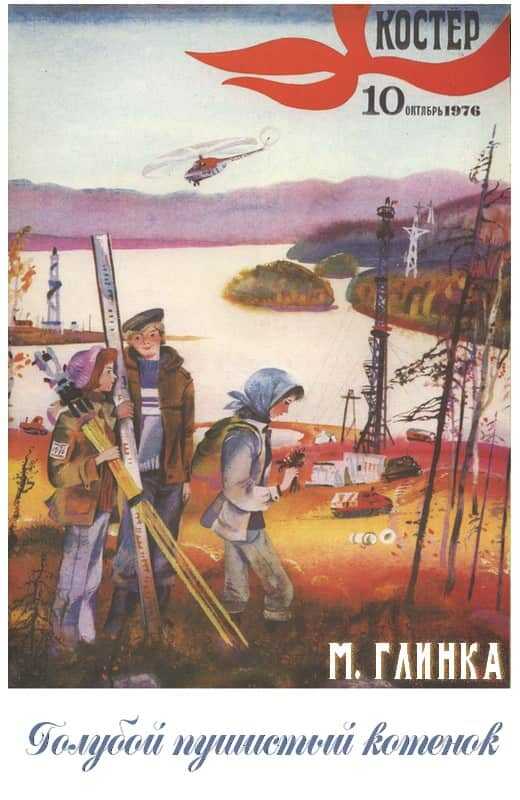Шрифт:
Закладка:
– Видите ли, господа, – вздохнул литератор, – что немцам в самую пору, нам может оказаться и великовато. Мы ведь такой народ, что из любой философии способны изготовить бомбу, да и бухнуть в какого-нибудь несчастного, больного генерала.
За окном тянулись провислые телеграфные проволоки, по плоской равнине, сползавшей к скошенному набок горизонту, растеклась, как озеро, овальная тень от широкого белого облака; внезапно к окну прибился, загородив небо, березовый лесок, замелькал стволами, просветами и оборвался в высохшее, усеянное желтыми кочками болотце. Поезд вбежал в грохот моста, сквозь часто мелькавшие фермы которого сверкнула и тут же исчезла заросшая кугой речка. В купе заглянул проводник, проворный малый с плутоватыми глазками на белом рыхлом лице, и предложил чаю. Через минуту он появился снова, смахнул со столика, расстелил салфетку и, расставив стаканы, выжидательно замер у входа.
– Часом, не к Мурому подъезжаем? – полюбопытствовал Кольпицкий.
– К Мурому, ваше превосходительство.
– Ступай, голубчик.
Вагин потеснился, чтобы дать место у столика господину литератору, студент тоже, помедлив, подвинулся к барышне.
– Но вы же не станете отрицать влияния Ницше на современную поэзию, – продолжил беседу Василий Андреевич. – И притом самого положительного!
– То, что сейчас печатают журнальчики, вы называете поэзией? – удивился Кольпицкий и потер красную, измученную пенсне переносицу. – Нет уж, увольте, все это в лучшем случае стишки, так сказать, забава для неразборчивого вкуса.
– А Блок?!
– Как вы сказали – Блок? Должно быть, еще один выскочка из черты оседлости? – Кольпицкий утвердил на носу пенсне и стал похож на толстую черную птицу.
– Блок дворянин! – Василий Андреевич взволнованно вскочил с дивана.
– А вот Пушкин не читал вашего Ницше, и ничего, уцелел! – весело заметил Вагин, все помешивая картишки.
– А ведь верно! – Влажные глаза Ольги Петровны озорно заблестели; она повернулась к студенту: – Какой вы, право, горячий. Просто огонь. А можно я буду называть вас Васенькой? Во-первых, я старше вас, а во-вторых… во-вторых, Васенька вам больше к лицу.
– Почту за честь, – с серьезным поклоном буркнул Василий Андреевич, вернулся на диван и тотчас, не выдержав своей серьезности, по-детски застенчиво улыбнулся.
– И правильно! – поддержал Вагин. – Какие церемонии! – И, приложив руку к сердцу, представился Ольге Петровне: – Николенька.
Ольга Петровна рассмеялась и захлопала в ладоши, как это во все времена делали девочки на детских утренниках; она посмотрела на насупленного дядю, наморщила полные губки, но не удержалась и прыснула. Вагин, развязно подмигнув студенту, обратился к Кольпицкому:
– А вас, сударь, как маменька величала?
Вагоны наехали друг на друга, затолкались из стороны в сторону, и пол неприятно задрожал от натужного, тягостного звука.
– А вот я знаю! – Вагин хлопнул себя ладонью по колену и захохотал, открыв кривые, обкуренные зубы. – Маменька величала вас Масиком!
– Вовсе нет, – добродушно откликнулся Кольпицкий, – если вам угодно, маменька звала меня Липочкой. Да-с, Липочкой. Почему? – Он пожал плечами, вздохнул: – Теперь, увы, не узнать. Да-с.
Поезд остановился; прямо против окна утвердилась белая колокольня, окруженная черными невзрачными домишками в зарослях гигантских лопухов.
Василий Андреевич нечаянно встретился взглядом с Ольгой Петровной и словно окаменел: какие глаза! Точно сирень в росе на восходе!
– А я была Лелей. Вы ведь помните, дядя? – Глаза Ольги Петровны, мерцая влажными выпуклыми белками, медленно уплыли.
Василию Андреевичу сделалось жарко; он почувствовал, как разом взмокла спина, как между лопатками щекотно прокатился шарик пота, как дернулось и оборвалось в пустоту сердце; он судорожно, со всхлипом, вздохнул:
– Что-то душно, – и, пряча глаза, поспешно вышел из купе.
– Разбили вы сердце нашего студента, – догнал его смеющийся голос Вагина.
Вдоль кирпичного вокзала, придерживая рукой шашку, взад-вперед прохаживался высокий жандарм; иногда он замедлял шаг, смотрел сверху вниз на сидевшего у дверей одноглазого нищего и, наморщив лоб, вышагивал дальше; мужики, ладно одетые, курили крепкие, с голубым дымом, папиросы и что-то грубыми голосами кричали своим бабам в просторных сарафанах, пока те как-то боком, неловко лезли в вагоны; звонко перекликались белоголовые мальчишки, разносчик в красной рубахе предлагал горячие пироги, но никто не покупал – жарко; степенно, оберегая корзинки с домашней снедью, направлялись к своим вагонам мещане; чуть поодаль, кружком, веселились нарядные молодые люди и барышни в белых блузках – по всему, провожали франтоватого, с черными усиками и расчесанными на пробор блестящими волосами инженера-путейца: выстрелило шампанское, взметнулся белый факел пены, визг, смех, толкотня, сейчас же откуда-то вынырнул малый со стаканами на подносе, хлопнула пробкой еще одна бутылка, жандарм обернулся и глубоко, до слез зевнул; сквозь дробный гул голосов, сквозь важное чуханье паровоза уютно несло березовым дымом, колесной мазью, навозом; а то вдруг теплый ветерок настигал волнующим запахом горячего хлеба.
Василий Андреевич вошел в вокзал – здесь было прохладно, сумрачно, тихо, только мухи гудели и бились в пыльные стекла. В третьем классе, прямо у буфетной стойки, он выпил пива, зачем-то накупил ворох газет и снова вышел на платформу. «А ведь все это было», – подумал он. И эта станция, и развязный, но милый поручик, и похожий на толстую птицу литератор, и – Ольга Петровна, будто знал ее с детства, Лелечку, наряженную снежинкой; на Рождество в лотерею ему всегда доставалось не то, чего хотелось, так, какой-нибудь малоинтересный пустяк; однажды на елке у Карсавиных он спрятался под сваленные в передней шубы. «Васенька!» – искали его, а он не отзывался. И нынче его имя, исполненное виолончельным голосом Ольги Петровны, будто отмылось от времени и сделалось новым и чистым, как в детстве; мятное «с» в середине ознобно светилось голубым – Васенька. А дальше – дальше обморочные, с миндальным привкусом поцелуи, упоительная шелковистость кожи в ямке над ключицей, разметанные по подушке, отливающие золотом волосы и сильные, со стоном объятья, в которых бесследно исчезает душа: «Боже мой, противный мальчишка, ну что ты со мной делаешь!», а потом… потом осенняя промозглая ночь среди огромных теней вагонов и разбегающихся рельсов; раскачиваются на ветру фонари, хлопают полы распахнутой шинели, лязгают буферами пущенные с горки вагоны и – глухой выстрел в висок из револьвера, купленного по случаю у оборванного бродяги.
Рядом с паровозом, полным внутреннего напряженного гуда, тяжко ухавшим раскаленным чугуном, озабоченно сновали рабочие. Василий Андреевич остановился против красного, в густом желтом масле колеса и весело спросил чумазого смазчика:
– А скажи, братец, докатится это колесо до Москвы?
Смазчик не ответил, блеснул белыми глазами и сутуло прошел мимо.
– Вот тебе и пролетарьят! – счастливо засмеялся студент.
Он вбежал в вагон, зашвырнул на полку