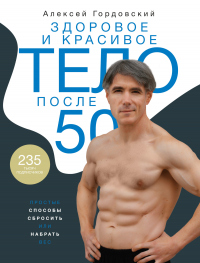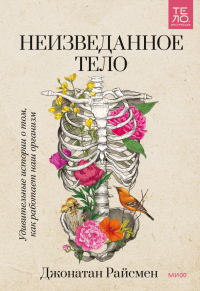Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Менопауза ждет каждую женщину, но об этом периоде слишком мало информации, а цифры статистики выглядят пугающе. Больше 60 % женщин набирают в весе. От приливов и озноба страдает каждая вторая, но к врачу, боясь осуждения, обратится только каждая третья… Автор книги Дарси Штайнке, известная американская журналистка и преподаватель Принстонского университета, после пятидесяти начала страдать приливами, бессонницей и депрессией. Когда она попыталась понять, что с ней происходит, столкнулась с молчанием: нет ни информации, ни поддержки. И это неудивительно, ведь менопауза в противовес менструации – символу фертильности и жизни – всегда рассматривалась как предвестник смерти. Тогда Дарси Штайнке проанализировала и откровенно описала свой опыт. Сплетая воедино личную историю с философией и научными данными, автор показывает, что в XXI веке менопауза – это лишь остановка на пути к новой жизни. Эта книга изменит ваше отношение к менопаузе, и вы обретете свободу.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дарси Штайнке»: