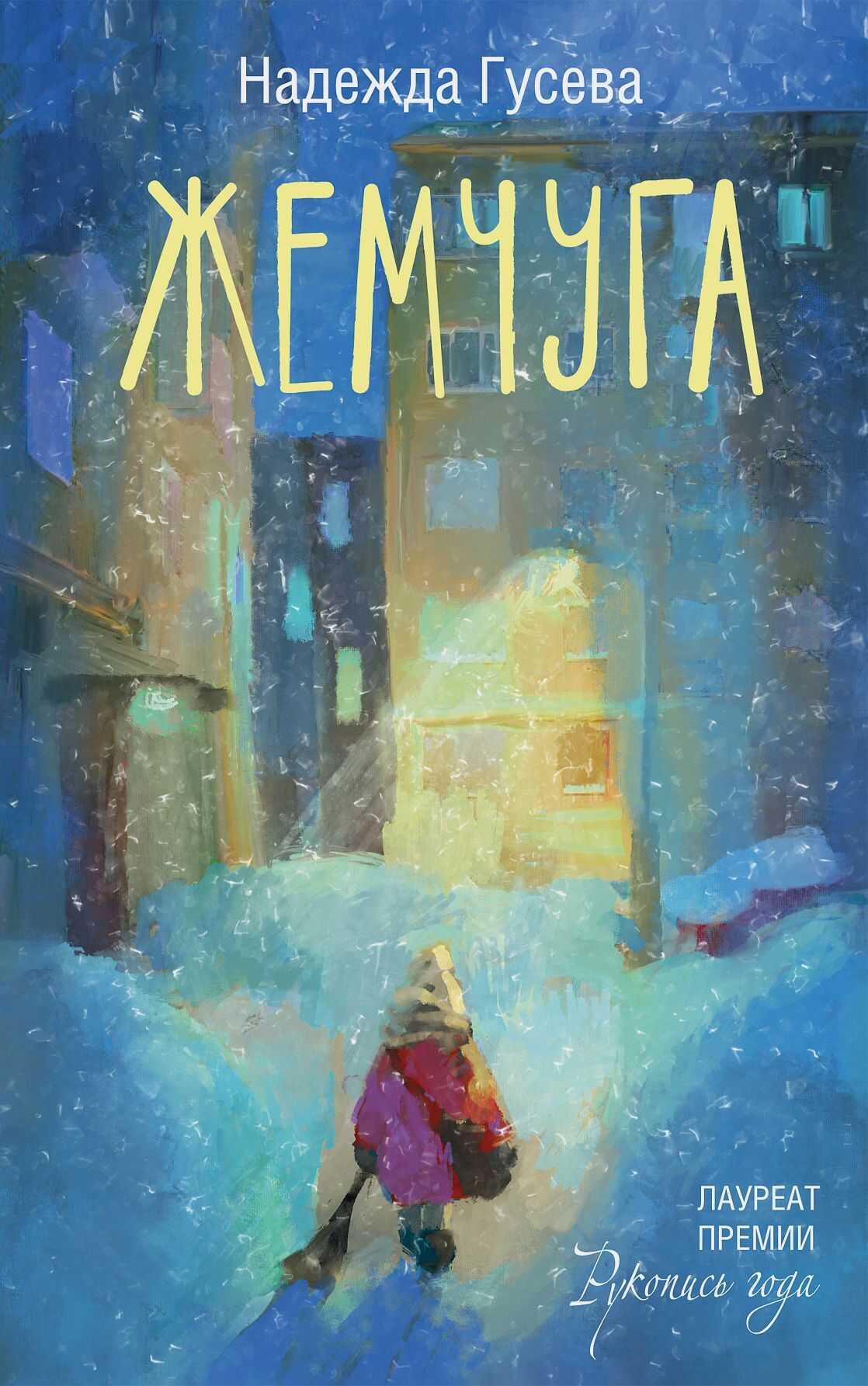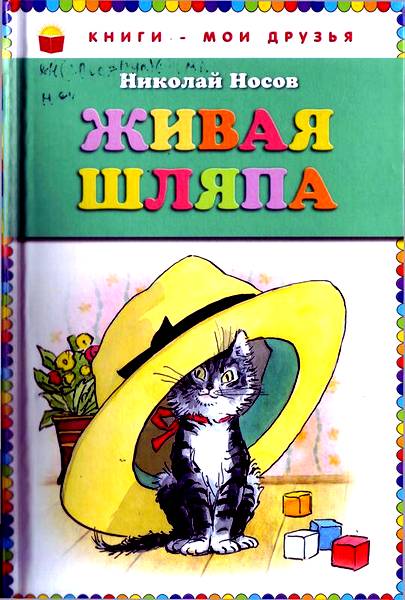Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
О школе – глазами ребенка, который сам спустя годы стал педагогом.Школа – это жизнь. Школа – это череда моментов, каждый из которых может стать поворотным.Случайно прочитанное стихотворение меняет мир вокруг, тихая девочка Тучка теряется навсегда, неправильное ударение меняет судьбу человека, пирожные прячутся в сапогах, а с листа стенгазеты смотрит пугающее лицо. А есть еще волшебное кольцо под партой, таинственные рисунки на спинке стула, сказка ночного тумана, несказанные слова, неотправленные открытки и… воскресшие птички, вылетающие из добрых рук.Книга для взрослых о детстве, о его радостях, горестях, странных совпадениях, перевернутых ценностях, самых обычных чудесах и неотъемлемом от всего этого одиночестве.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Надежда Гусева»: