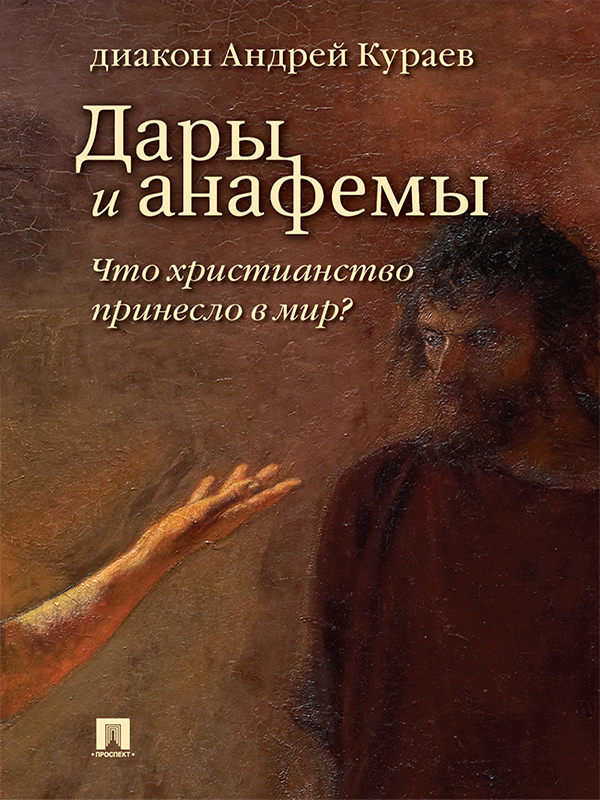Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Новое, значительно переработанное издание великолепного исследования Андрея Кураева — это возможность еще раз задуматься о феерическом и одновременно глубоко продуманном мире одной из главных книг нашего времени. Что видит в романе Булгакова профессор богословия? Факты, логика, неожиданные выводы, юмор и эрудиция автора обещают всем поклонникам и противникам творчества Булгакова незабываемое чтение.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Андрей Вячеславович Кураев»: