Шрифт:
Закладка:
В годы 1990-е, которые ныне принято называть «лихими», капитан Москалев получает предложение поработать в совместном российско-чилийском предприятии в далекой стране, на ночном небе которой главенствует Южный Крест. Жаль не знает он, что жизнь стремительно меняется не только на «одной шестой суши», что отношение к представителям бывшего Советского Союза ухудшается повсеместно буквально не по дням, а по часам. Геннадий Москалев даже не подозревает, что поджидает членов его команды в Чили, через какие трудности и опасности придется им пройти… Новое произведение признанного мастера отечественной военно-приключенческой литературы, лауреата Государственной премии Российской Федерации им. Г.К. Жукова, литературной премии «Во славу Отечества» и многих других. Знак информационной продукции 12+
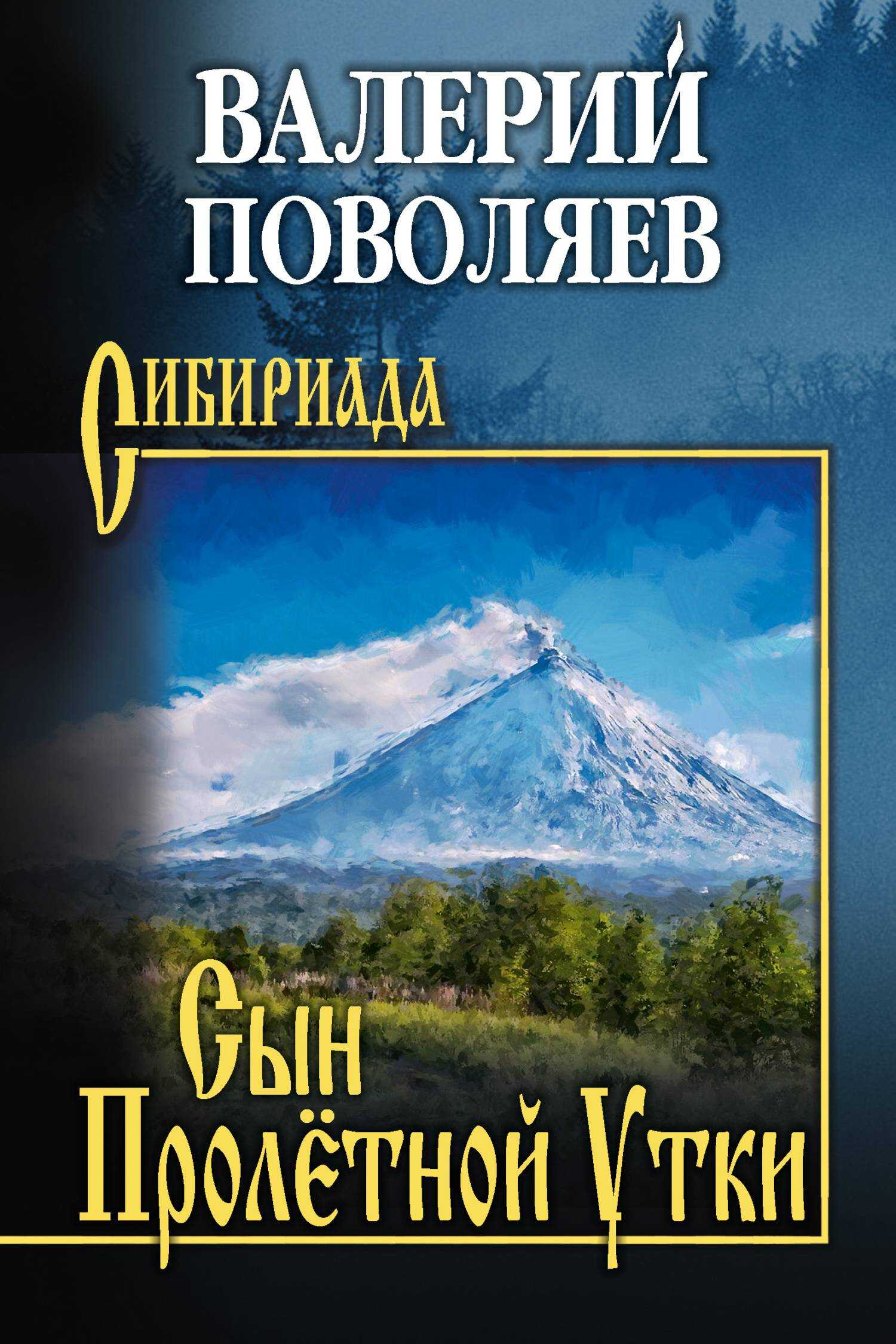

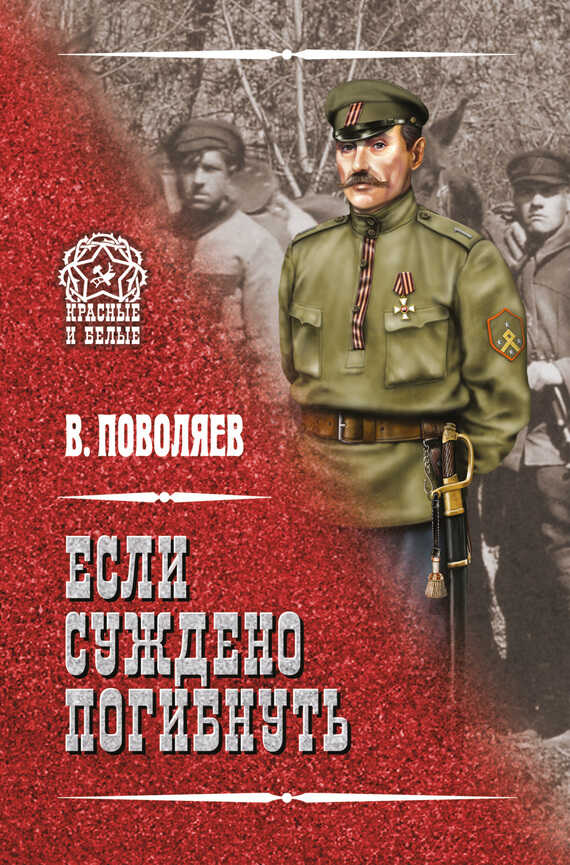
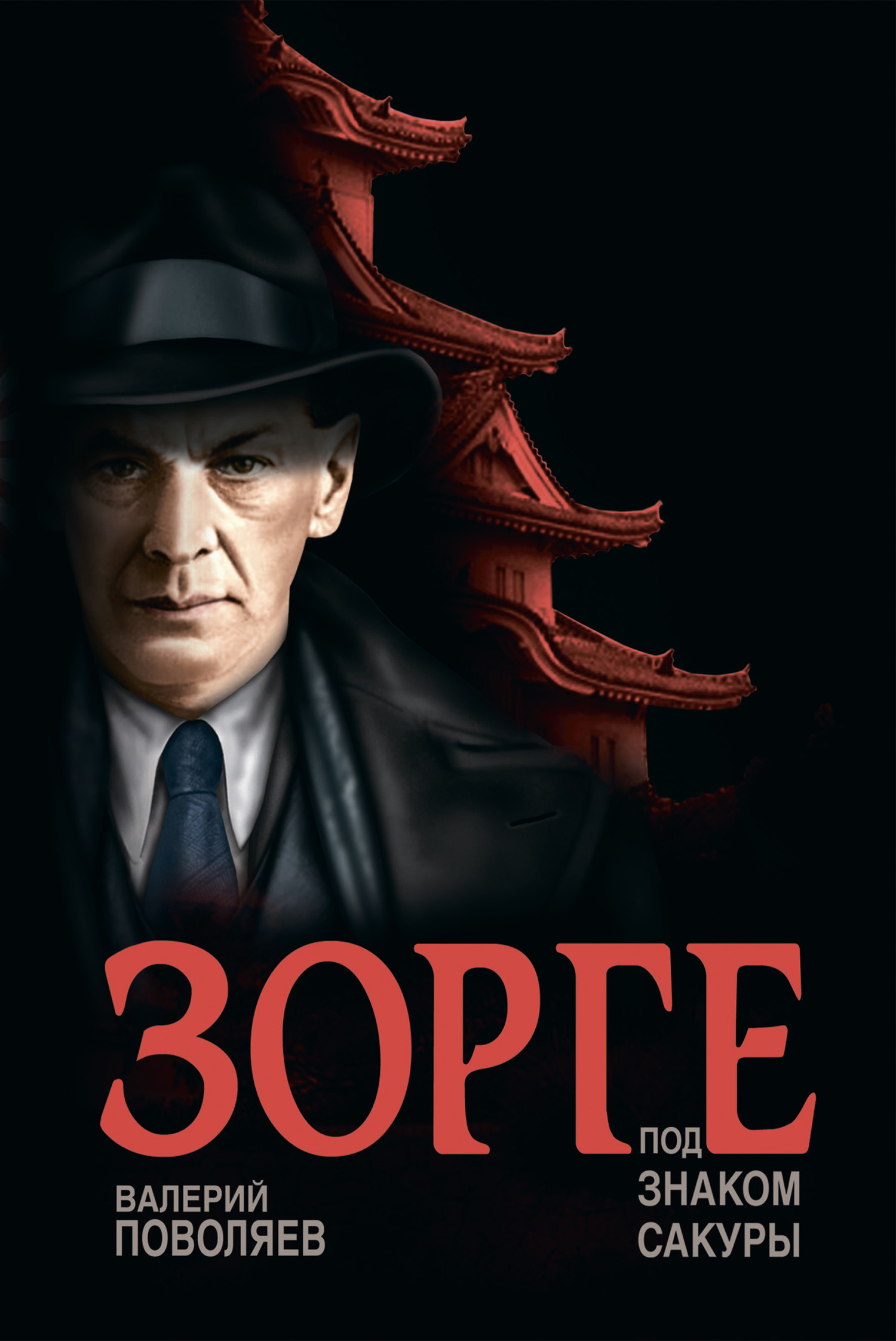


![Золотые серпы[сборник] - Георгий Маркович Науменко](/uploads/posts/books/3406/3406.jpg)


