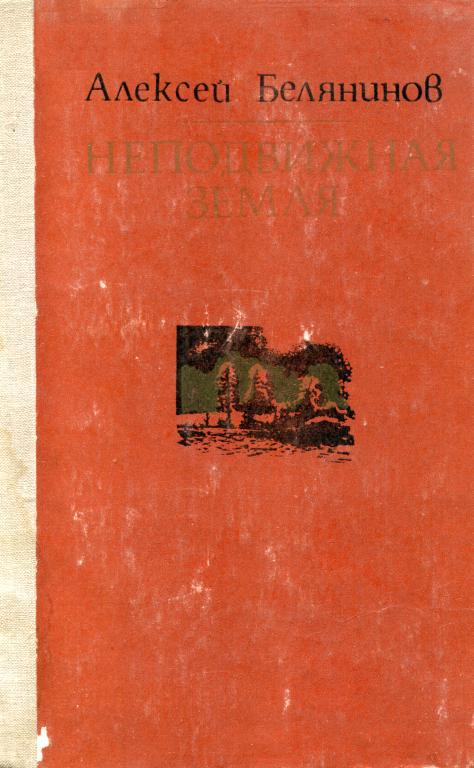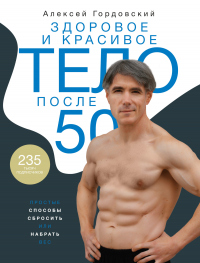Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Чтобы последовать за героями книги А. Белянинова, пришлось бы преодолеть многие тысячи километров, пересаживаться из автомашины на верблюда, с самолета — на оленью нарту… Якутская тайга и Каракумы… Мангышлак — восточное побережье Каспия, Кавказ, Алма-Ата, Северный Казахстан. Все это связано с простыми и значительными житейскими историями, с людьми, которые без лишних слов, негромогласно опровергают самые понятия «пустыня», «глухомань». Книга А. Белянинова «Неподвижная земля» составлена из повестей и рассказов, написанных автором в разные годы его литературной работы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алексей Семенович Белянинов»: