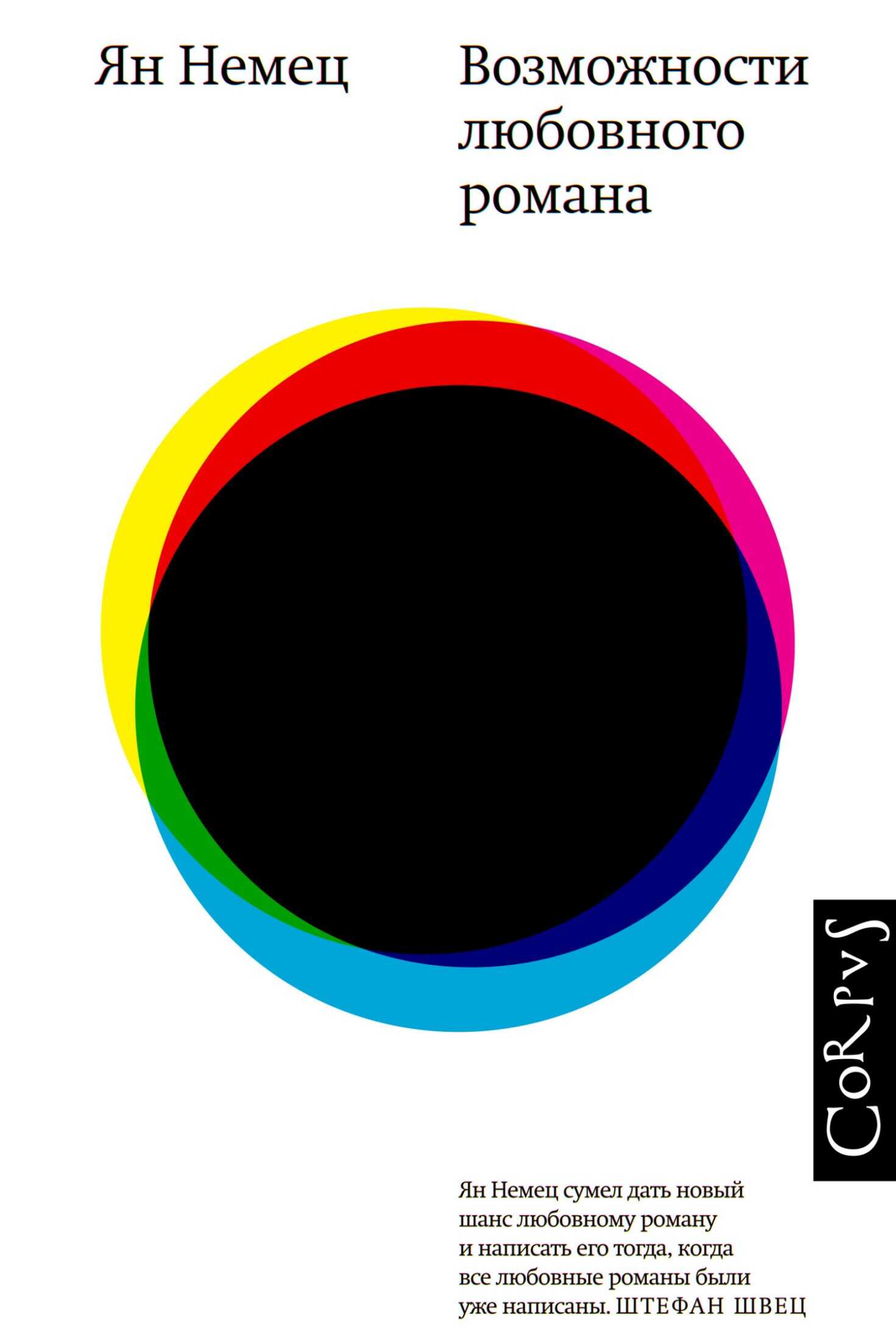Шрифт:
Закладка:
«Возможности любовного романа» – это тонкая и психологически выверенная проза, книга, удивляющая не только необычностью сюжета, но и непривычной структурой. История любви Яна и Нины – писателя и студентки – разворачивается на наших глазах. И с самого начала мы узнаем, что влюбленные расстанутся… во всяком случае в рамках книги. Роман написан от первого лица, от имени Яна, и только изредка к рассказу о пережитом подключается Нина, пытающаяся объяснить, что ей все видится несколько иначе. Ссоры, споры, бурные примирения – все как у всех, но повествование об этом перемежается путевыми заметками, отрывками из научных и псевдонаучных сочинений, актуальными рассуждениями о постмодернизме, симпатичными зарисовками из жизни чешской богемы и даже интервью, взятым автором у самого себя… читатель и сам не замечает, как оказывается внутри романа и постепенно там обживается. Ян Немец – один из самых заметных современных чешских писателей, но на русский язык его книги прежде не переводились. К счастью, теперь это упущение исправлено.