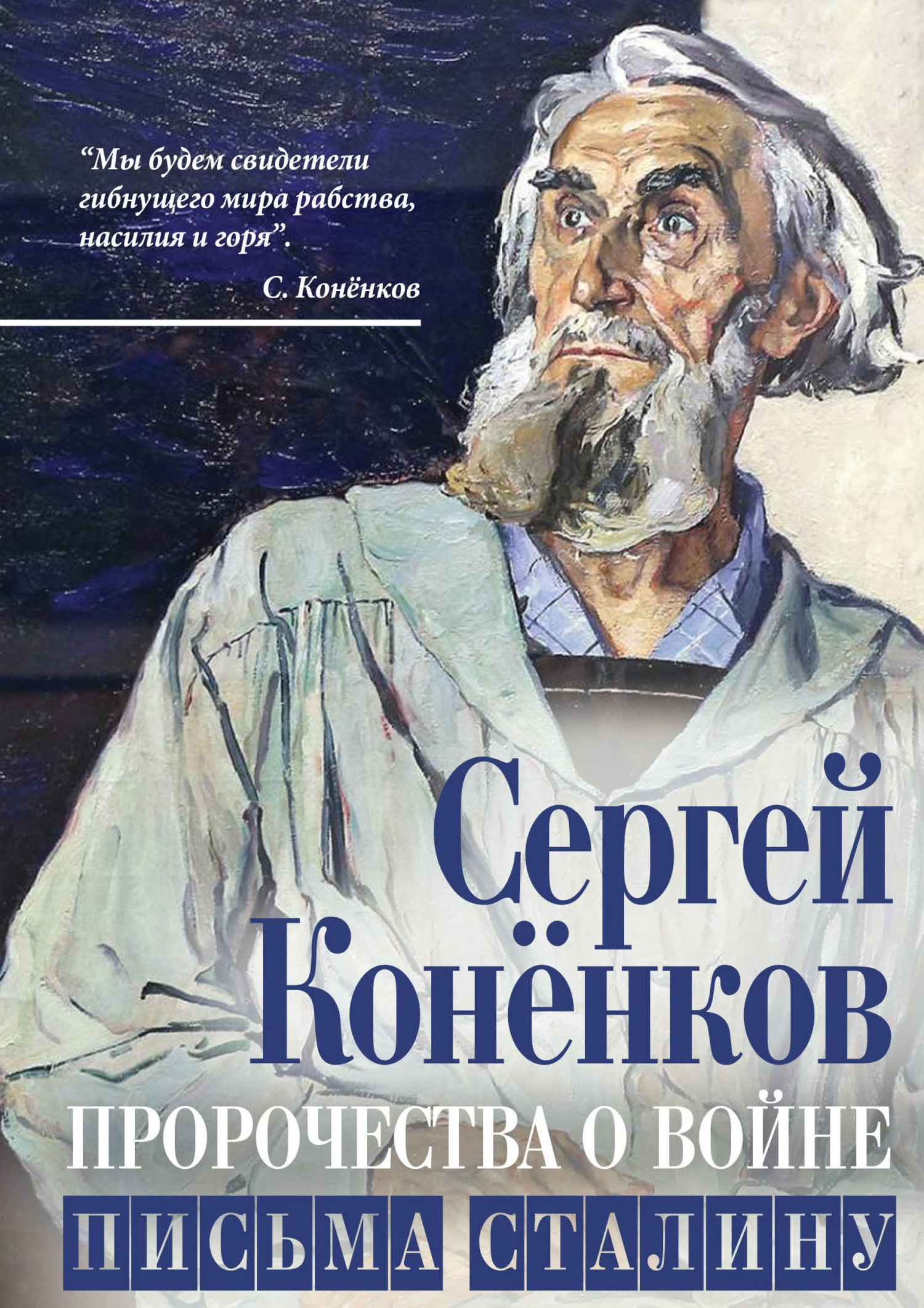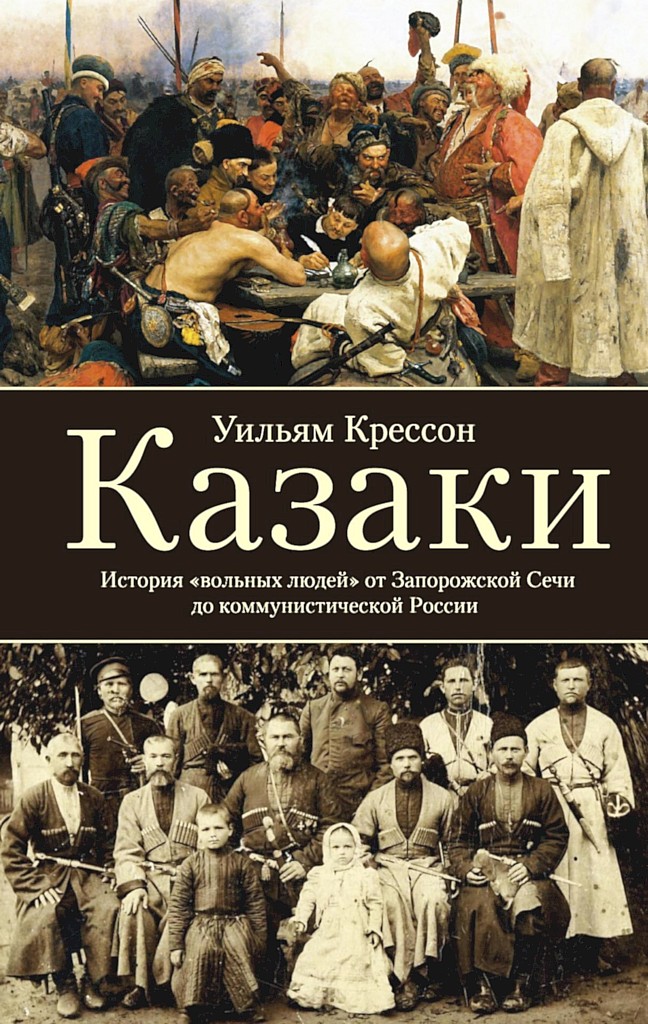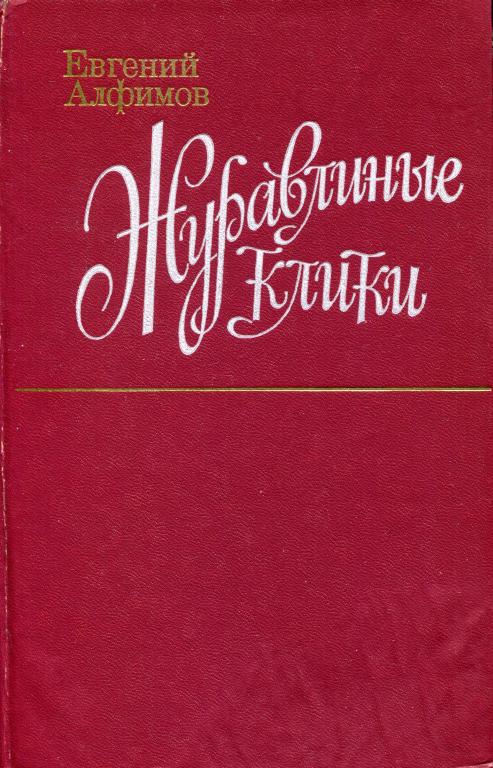Шрифт:
Закладка:
Сергей Тимофеевич Конёнков (1874-1971), выдающийся скульптор, которого называли «русским Роденом», прожил долгую интересную жизнь. Выходец из многодетной крестьянской семьи, он ещё в царское время благодаря своим незаурядным дарованиям стал известен не только в России, но во всём мире. Конёнков дружил с Есениным, хорошо знал Шаляпина и Рахманинова, академика Павлова, других выдающихся деятелей российского искусства и науки.После Октябрьской революции, которую он горячо принял, Конёнков был направлен в Америку для участия в выставках русского и советского искусства, по официальной версии. Однако начальник 4 диверсионно-разведывательного управления НКВД Павел Судоплатов утверждал, что Конёнков и его жена выполняли особую миссию в США: «Конёнкова под руководством сотрудника нашей резидентуры в Нью-Йорке постоянно влияла на Оппенгеймера; существенной была ее роль и в разведывательной операции по выходу на близкие к Эйнштейну круги ученых специалистов. Через супругов Конёнковых к нам поступала важная информация о перспективах нового «сверхоружия»».Из Америки Конёнков написал ряд писем Сталину, в которых на основе различных пророчеств предсказал грядущую Вторую мировую войну и будущее мира после неё. Как ни странно, многие из этих пророчеств сбылись.В данной книге приводятся воспоминания С.Т. Конёнкова о его жизни, а также письма Сталину о войне, впервые в полном виде, без купюр.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.