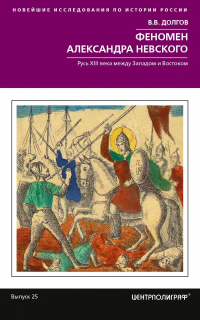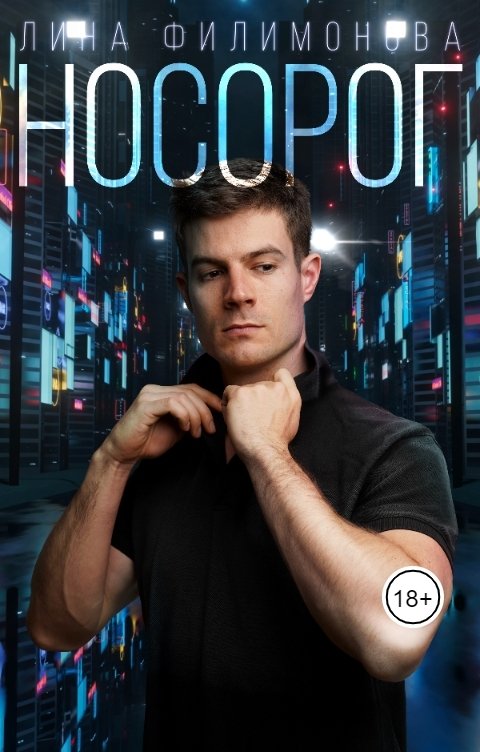Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга повествует о выдающемся событии в истории Древней Руси — битве новгородского войска под предводительством князя Александра Ярославича со вторгшимися на Русь шведами. Рассказ ведется на широком историческом фоне, показана жизнь древнего Новгорода, русское военное искусство, крестоносные устремления шведских феодалов, совместный отпор агрессорам со стороны славян, населяющих приневские земли.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Якимович Дегтярев»: