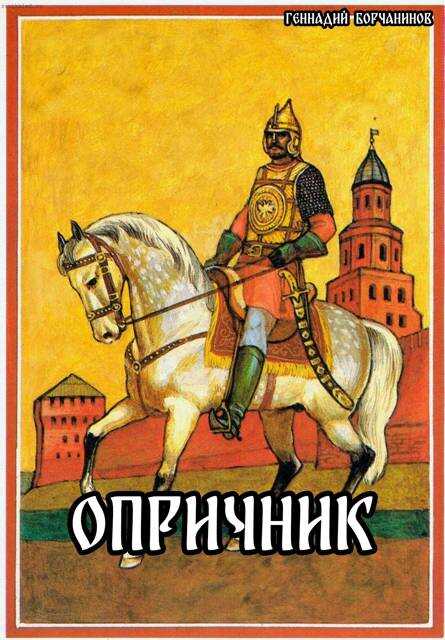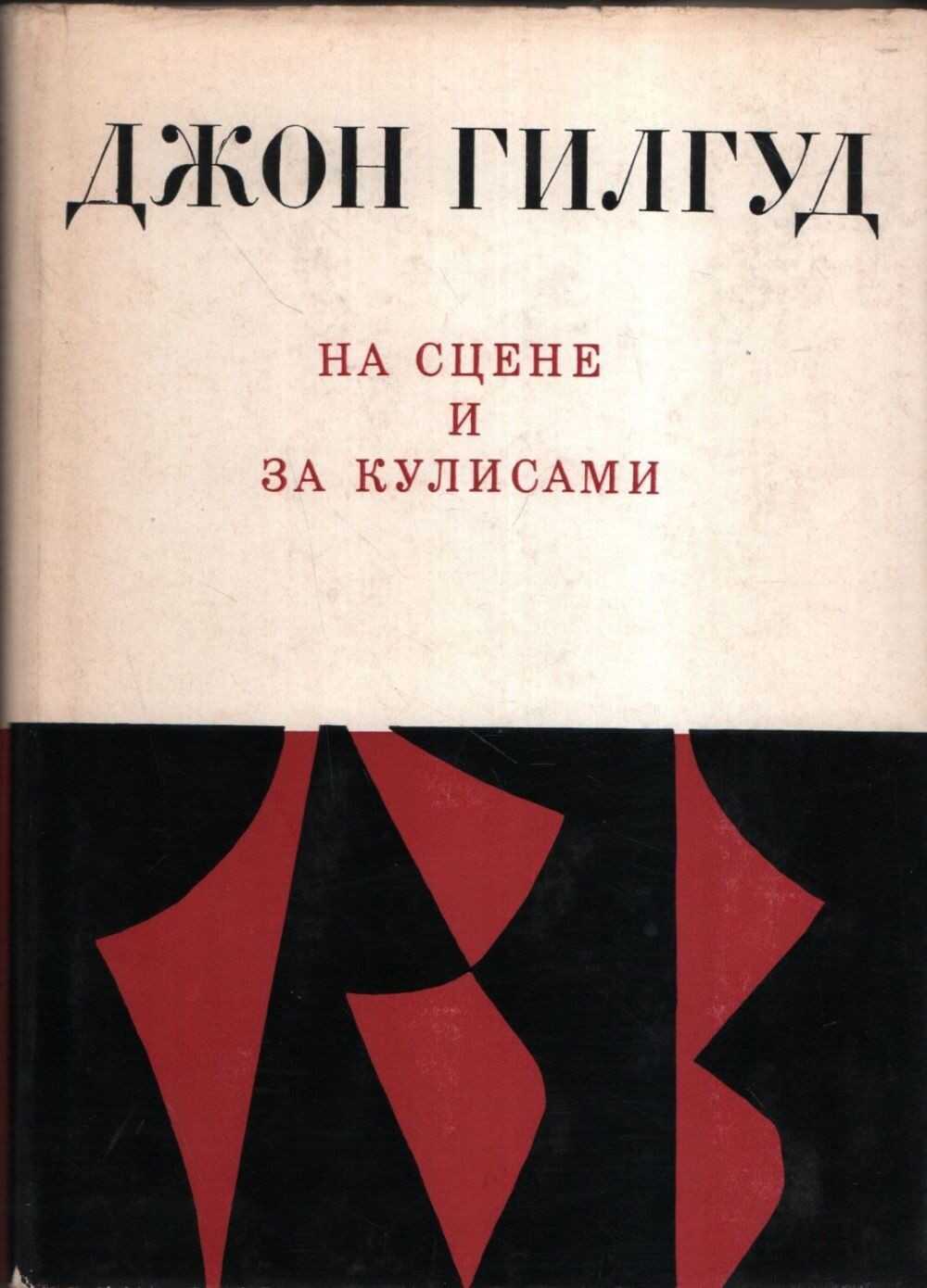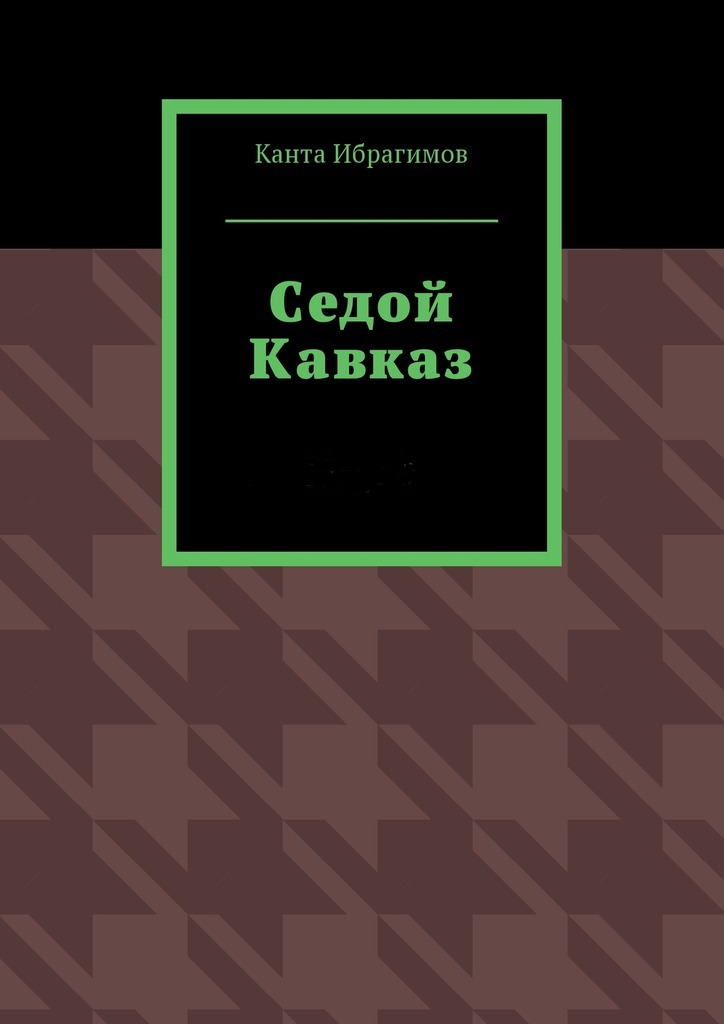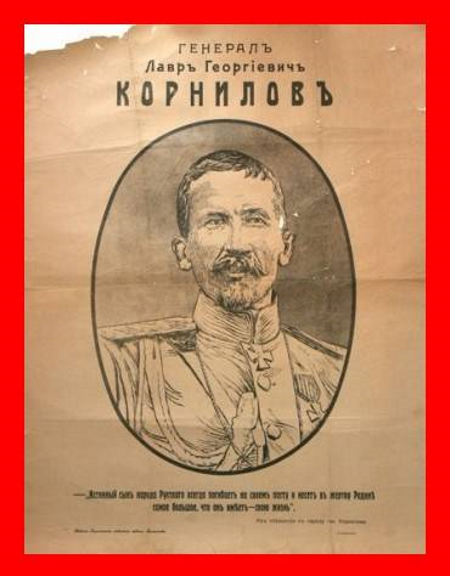Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Я был фронтменом одной из самых успешных российских метал-групп... Пока во время концерта в меня не ударила молния. Теперь я не сорокалетний мужик с пузом, а простой советский десятиклассник... В 1983 году. Андропов закручивает гайки, Холодная война вышла на новый виток, а цензура выискивает крамолу даже в самых невинных строках. Однако всё это не помешает мне играть музыку. Снова.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Геннадий Борчанинов»: