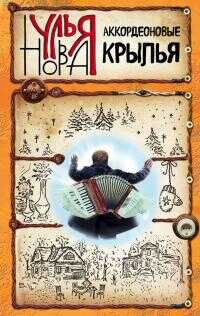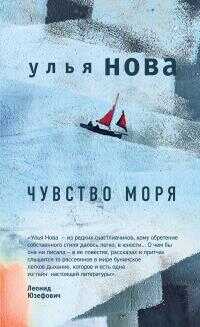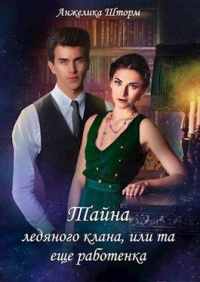Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман «Чувство моря» – это прежде всего история о надежде. О море, которое исцеляет от грусти, боли, несчастной любви и страха смерти. Это история о непостижимой силе, что проявляется в нас и действует через нас, чтобы спасать ближних и самих себя. Это история о людях странных и немного чудаковатых, влюбленных и одиноких, которые однажды понимают, что выход к морю – это единственный и самый верный выход для них.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Улья Нова»: