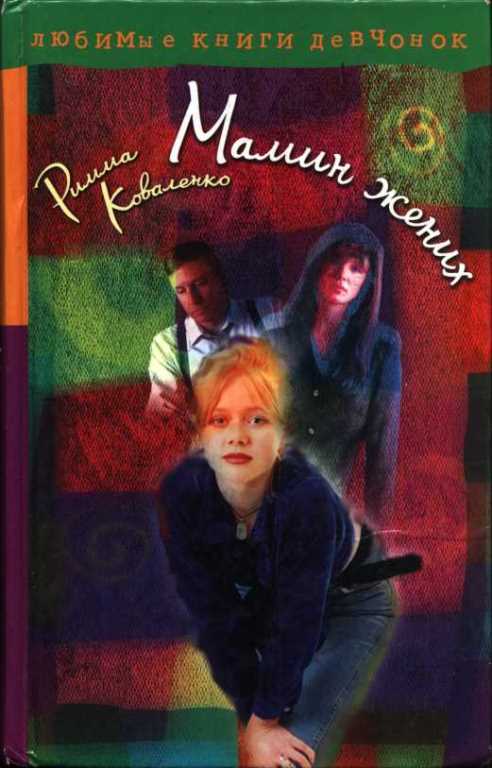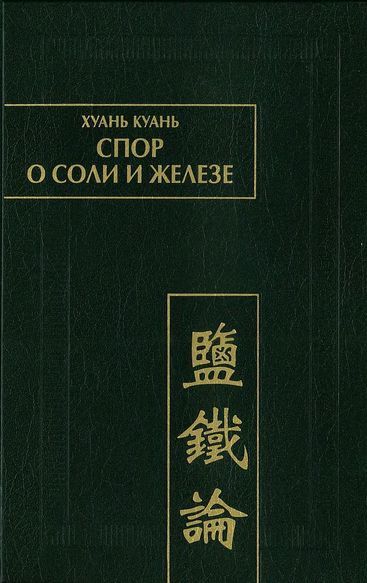Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Что делать, если у мамы не складывается личная жизнь? Как быть, если твои близкие — люди вовсе не преуспевающие? Героини этой книги молоды и красивы. Они рвутся в иной, радостный мир. С юношеской категоричностью вглядываются в жизнь взрослых и с удивлением обнаруживают, что все не так просто, как представлялось вначале. Вошедшие в книгу рассказы известной писательницы Риммы Коваленко о вечных проблемах человеческой жизни: любви и дружбе, верности и предательстве.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Римма Михайловна Коваленко»: