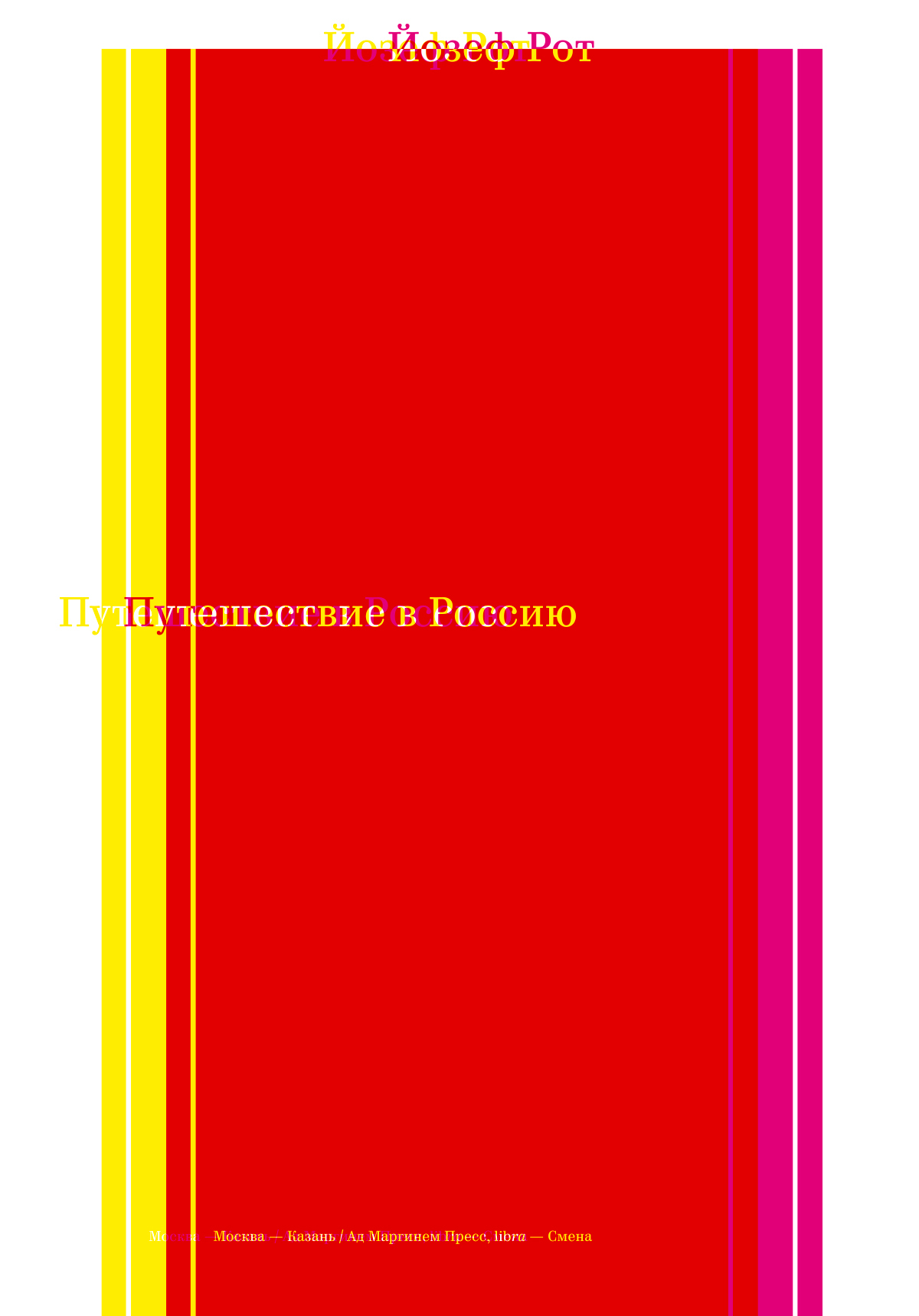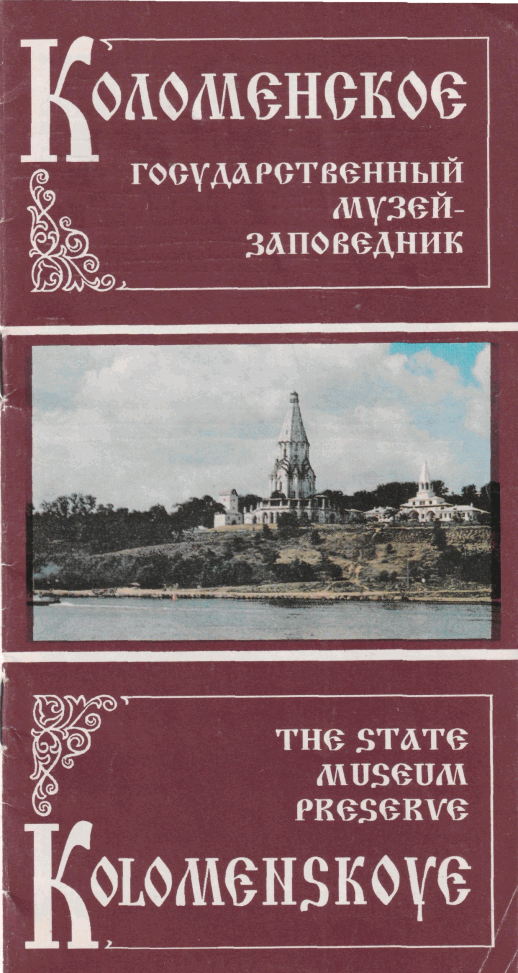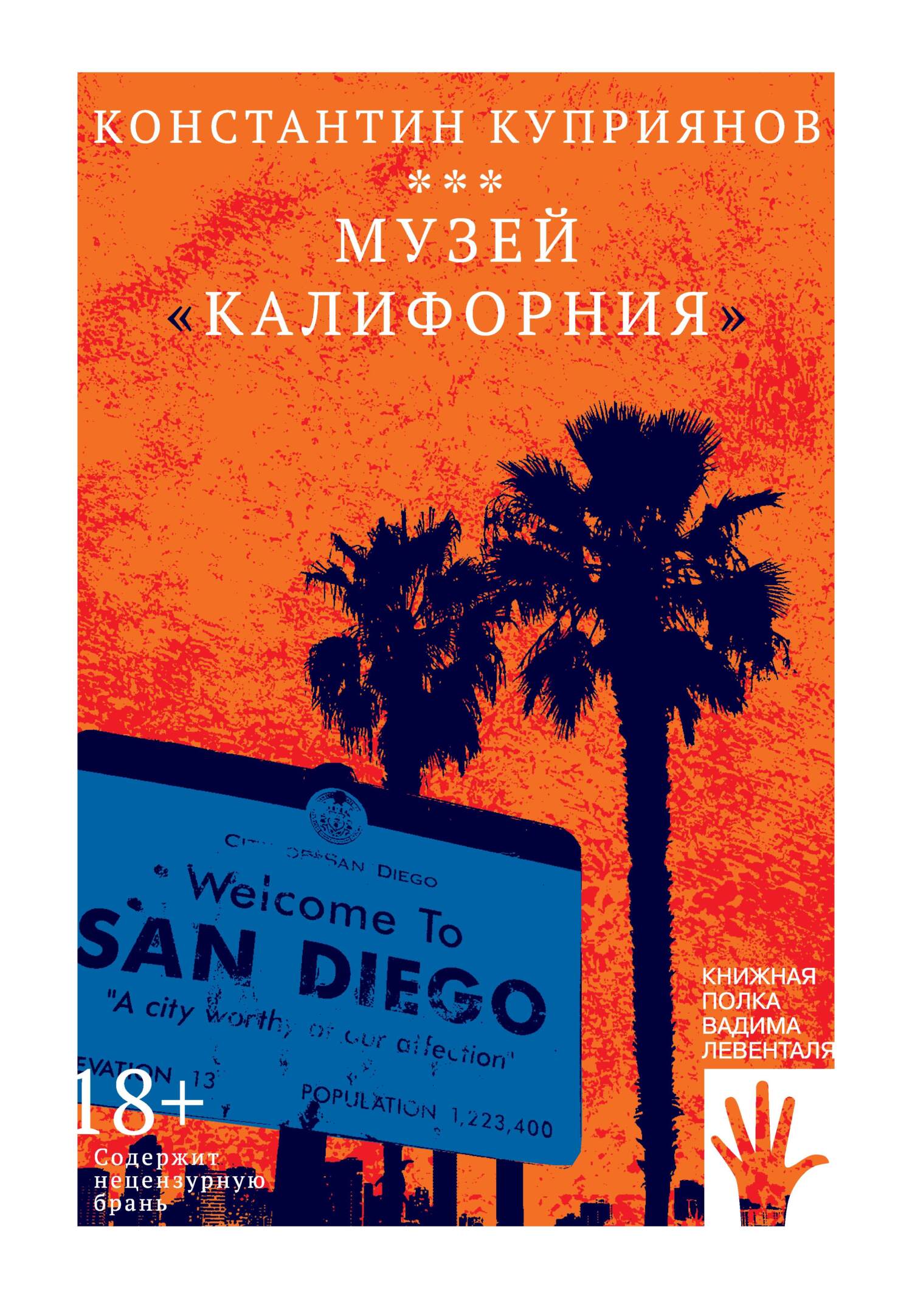Шрифт:
Закладка:
В 1926 году газета Frankfurter Zeitung предложила известному австрийскому писателю и журналисту отправиться в советскую Россию. Рот отправился в путешествие в июле 1926 года. Его первые репортажи полны живых впечатлений и написаны по следам его перемещений, однако скоро он обращается к волнующим его темам, раскрывая их на советском материале.
Эта книга была переведена на Первой Волжской переводческой резиденции, проведенной Центром современной культуры «Смена» и Домом творчества Переделкино. Переводчики из Казани, Волгограда, Астрахани, Минска, Москвы и Петербурга переводили очерки Йозефа Рота летом 2023 года в Национальной библиотеке Республики Татарстан и на острове-граде Свияжск.
Издательства выражают благодарность Музею-заповеднику «Остров-град Свияжск» за помощь в организации переводческой резиденции и за предоставленные изображения из фондов. Текст проиллюстрирован фотографиями из книги «1914–1930. Seize annees d’histoire en 700 photographies» («1914–1930. Шестнадцать лет истории в 700 фотографиях»), выпущенной издательством Ernest Flammarion editeur в Париже в 1931 году и журналов «Огонёк», выходивших в 1926 году.
Книга выпущена при поддержке Фонда «Живой город» и Министерства культуры Республики Татарстан.