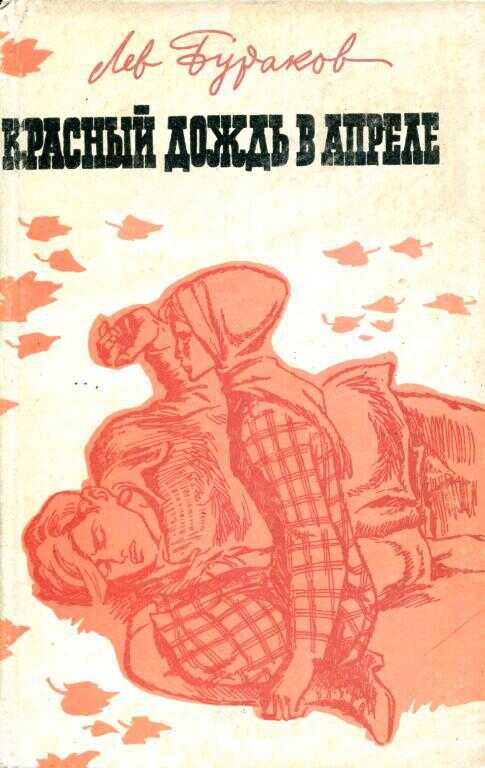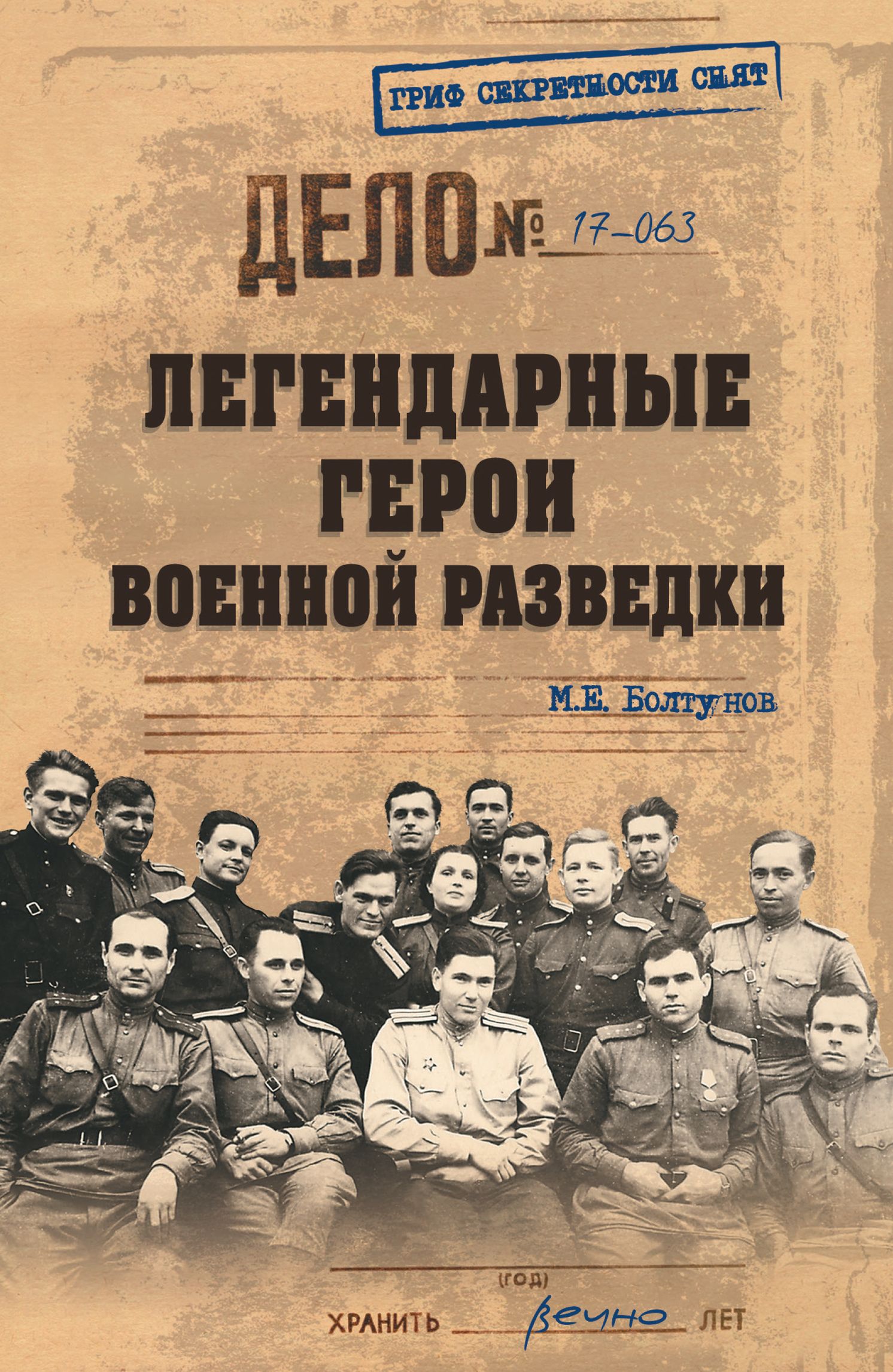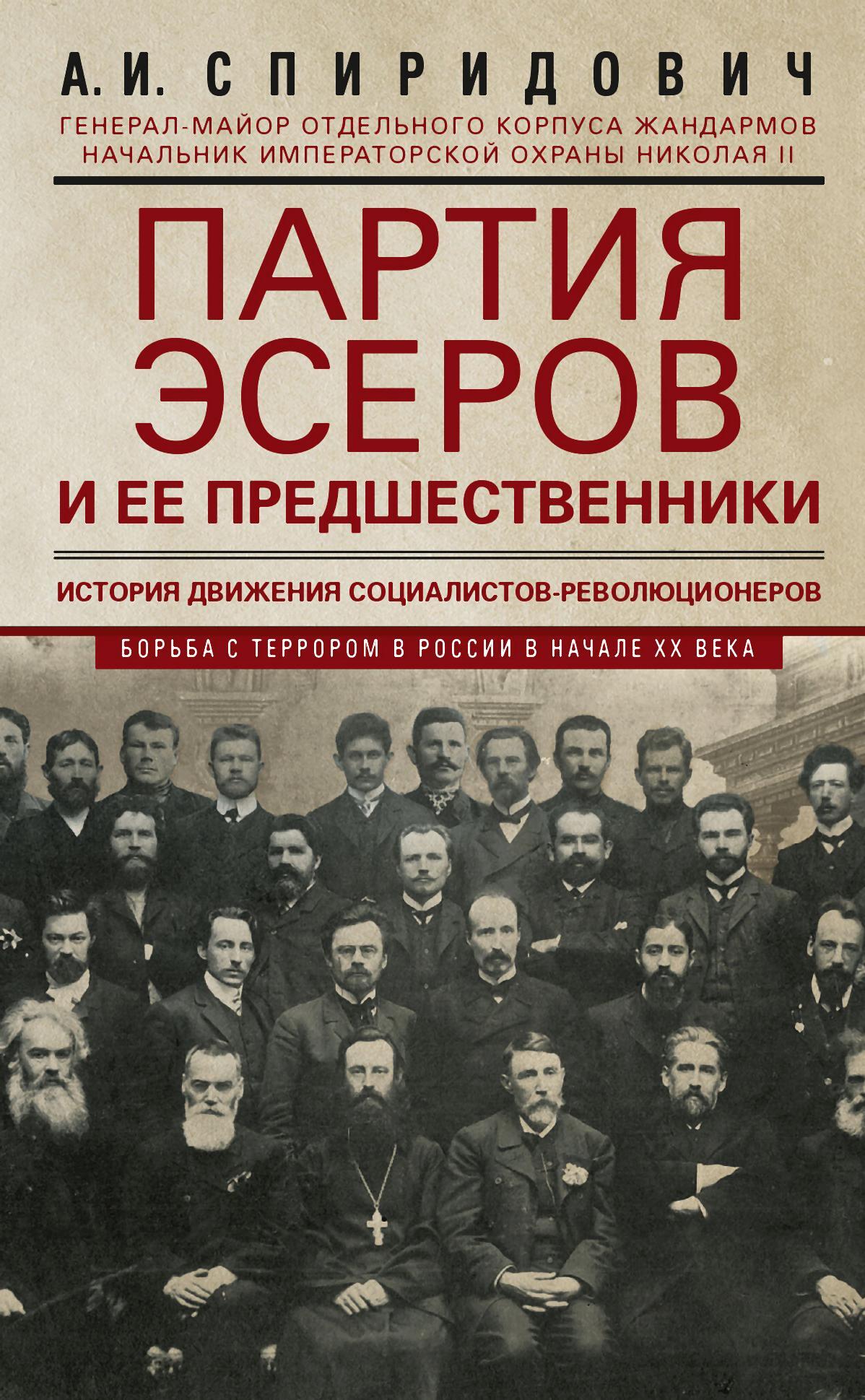Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Лев Александрович Бураков родился в 1930 году в Оренбурге. После окончания механического факультета Оренбургского сельскохозяйственного института работал инженером в Соль-Илецкой МТС. С 1960 года Лев Александрович — литсотрудник газеты «Южный Урал». Первая книжка Буракова «Берегите весну» вышла в 1966 году в Южно-Уральском книжном издательстве. «Красный дождь в апреле» — повесть о героической борьбе большевиков Оренбурга с дутовщиной. Через восприятие Леньки — главного героя повести — дан образ Самуила Цвиллинга и других революционеров. Наряду с реальными в повести действуют и вымышленные герои. Повесть рассчитана на юношеский возраст.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Лев Александрович Бураков»: