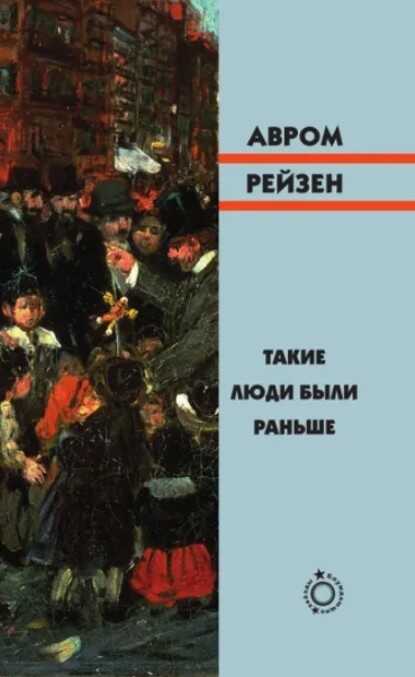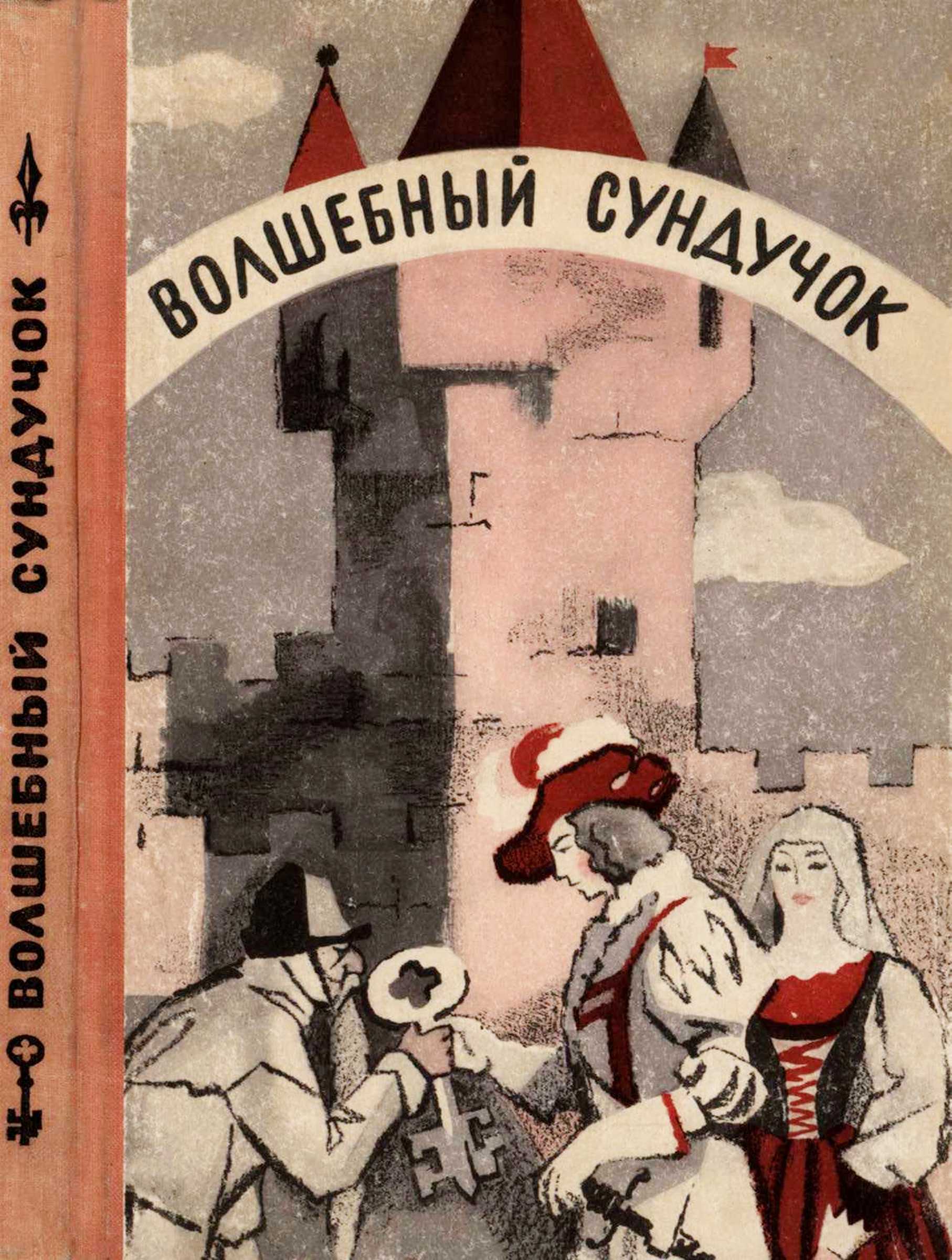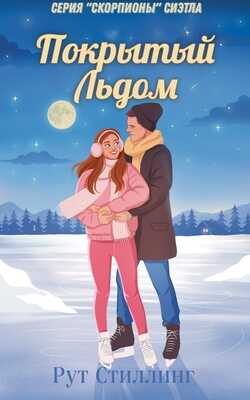Шрифт:
Закладка:
Отец больной, мать больная, само собой, дети тоже. Но самая больная старшая дочь Гела: высокая, худая, лицо бледное, как у покойника, и в глазах смертельная тоска. Хаим признает, что она «не очень», и, хотя не верит во врачебную науку, все же украдкой вздыхает, глядя на восковое лицо дочери: «Надо бы Гелу доктору показать!» Но это так, пустые слова. Точно так же, когда в доме нет хлеба, Хаим говорит: «Сейчас три рубля бы ли бы очень кстати…»
Эти фантазии вызывают у домашних грустную улыбку, а жена, если в эту минуту не заходится кашлем, начинает злиться:
— Опять он за свои шуточки! Только что-то не смешно…
У Хаима восемь учеников, и все из бедных семей. Богатые родители ему детей не отдают, боятся, как бы те не заразились от учителя. Ни разу в жизни Хаим не был в богатом доме и видел вокруг лишь бедность, нужду и болезни.
— Жизнь — глупая штука, — не раз говорил Хаим единственному близкому человеку, аскету из синагоги, с которым он любил побеседовать о высоких материях.
Он уже поведал этому аскету всю свою судьбу, как с двенадцати лет учился в разных ешивах, странствовал из молельни в молельню, спал на жесткой скамье и терпел голод, холод и побои, незаслуженные побои…
— Жизнь, — излагал он свою биографию, — это суета сует. Думаете, с тех пор как я сам себе хозяин, я живу? Спросите, когда я после свадьбы поел досыта, так я и не вспомню… Жилье у меня… А вы у меня дома были?
Со свадьбы Хаим жил в «землянке», где постоянно чихал и дрожал от холода. Каждый год после праздника Сукес он решал, что пора выбираться из «этой могилы», но, приняв твердое решение, вспоминал, что к «мебели» лучше не притрагиваться. Если попытаться сдвинуть с места две кровати, стол и деревянный ящик, они тут же на куски развалятся. «Вот тебе доказательство, что развалятся, — объяснял он жене. — Пойми, дубина, ими двадцать лет пользовались, они сгнили давно. С природой не поспоришь».
Его жизнь и правда была бы «глупой штукой», если бы не две радости, можно сказать, две страсти.
Первая — трубка. В неделю пачку махорки выкуривает, на восемь грошей. Это у него как пьянство, боже упаси. Бывает, и жена говорит: «На трубку весь свой заработок спустил, как пьяница на водку». Хаим и сам понимает, что это чересчур. Однажды ночью у него табак кончился, так он испугался, что без курева с ума сойдет, и к соседу-гою занять махорки пошел… Говорит, трубка не только легкие, но и душу согревает. Уж больно у него думы тяжелые. Он размышляет о Боге и Его воле, о том, «почему путь нечестивых успешен»[70], а праведный, достойный человек должен страдать. В голове молотом начинает стучать кощунственная мысль: а потому, что есть только законы природы и больше ничего… Хаим совершенно теряется, голова идет кругом, в глазах темнеет. Он машет руками, будто с кем-то борется, гонит прочь грешные мысли и… закуривает трубку. И сразу, с первой затяжкой, все встает на свои места. В голове проясняется, на душе становится легко и спокойно, и Хаим чувствует, что опять стал верующим, богобоязненным человеком.
Вторая страсть — объяснять ученикам книгу Иова. Это для него наивысшее наслаждение, светлый рай посреди темного ада.
Когда к нему в хедер приходит новый ученик, Хаим первым делом спрашивает:
— Что ты сейчас изучаешь, малыш?
— Исаию, — отвечает ребенок.
— А у меня будешь Иова изучать. Это замечательная книга, понимаешь? Прекрасная книга…
Сперва ребенок пугается. Он уже слышал от старших товарищей по хедеру, что это самая трудная книга Торы, а Хаим-Иов только о ней и говорит. Но едва начинается учеба, страх проходит, его место занимают светлая грусть и сострадание к Иову и учителю, который, оказывается, так похож на этого самого Иова!.. Первую главу Хаим проходит с учениками наскоро, как не слишком важное предисловие. Богатство Иова, удача, которая сопутствовала ему поначалу, — все это представляется Хаиму байкой, небылицей. Лишь когда появляется сатана, когда начинаются несчастья, Хаим входит в роль и с воодушевлением читает третью главу:
— «Ахарей-хейн посах Ийойв эс-пиѓу вайкалейл эс-йоймой».
И с чувством переводит:
— «После этого открыл Иов уста свои и проклял день своего рождения…»[71]
Все больше воспламеняясь, Хаим читает стих за стихом. Льется, льется грустный, тревожный напев, звучит в тесном хедере жалоба на несчастную, бедную жизнь, нескончаемое горе и боль… Хаиму все равно, правильно повторяют за ним ученики или с ошибками, он будто забыл, что он меламед, он сам изучает книгу Иова, для себя… И рыдает, и негодует, и протестует. Он читает главу за главой; он равнодушно выслушивает речи Елифаза Феманитянина, который пришел к Иову и дурит ему голову глупыми утешениями, а тот отвечает, по-прежнему рыдая, и негодуя, и протестуя…
Хаим читает главу за главой, пока не устанет. Глубочайшее переживание начисто отбирает у него силы.
Надо отдохнуть. Закурив трубку, он задумывается. Выпускает изо рта густые клубы дыма и размышляет о своей несчастной, неудавшейся жизни. Больная жена, больные дети. Четверо или пятеро, он уже точно не помнит, умерли от голода и холода, давно умерли. И сам он еле жив, в груди болит, суставы ломит, тощий стал, кожа да кости. Эх, тоска… Криком кричать хочется, проклинать такую жизнь на чем свет стоит.
И он снова начинает повторять третью главу: «Ахарей-хейн посах Ийойв эс-пиѓу вайкалейл эс-йоймой» — «После этого открыл Иов уста свои и проклял день своего рождения!..»
1902
Ложь
Учитель Фридман, молодой человек лет двадцати пяти, провел на тихой, окраинной улочке последний урок и теперь собирался зайти в кафе поужинать и, как обычно, почитать свежие газеты. Недалеко от кафе кто-то тронул его за плечо. Обернувшись, Фридман увидел своего приятеля Зельвина.
— Ты куда? — спросил Фридман.
Зельвин был очень бледен.
— Я… Я… Мне нужен рубль… — Он осекся, будто ему не хватило воздуху, и испуганным голосом договорил: — Фридман, одолжи рубль! Очень надо…
Фридман машинально сунул руку в карман, где у него лежал единственный серебряный рубль, сжал его в кулаке и выпалил:
— У меня нет! Честно!
— Эх, как нехорошо! — вздохнул Зельвин. — Жилье снимаю за рубль в месяц, не жилье, а конура, прости Господи. Уже три дня просрочил… Сегодня не принесу — не пустят, хоть