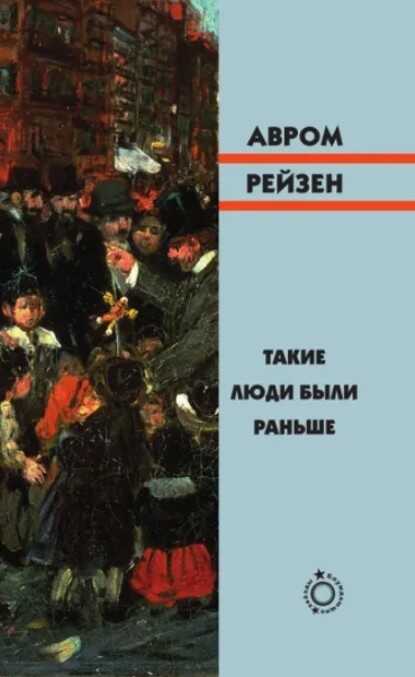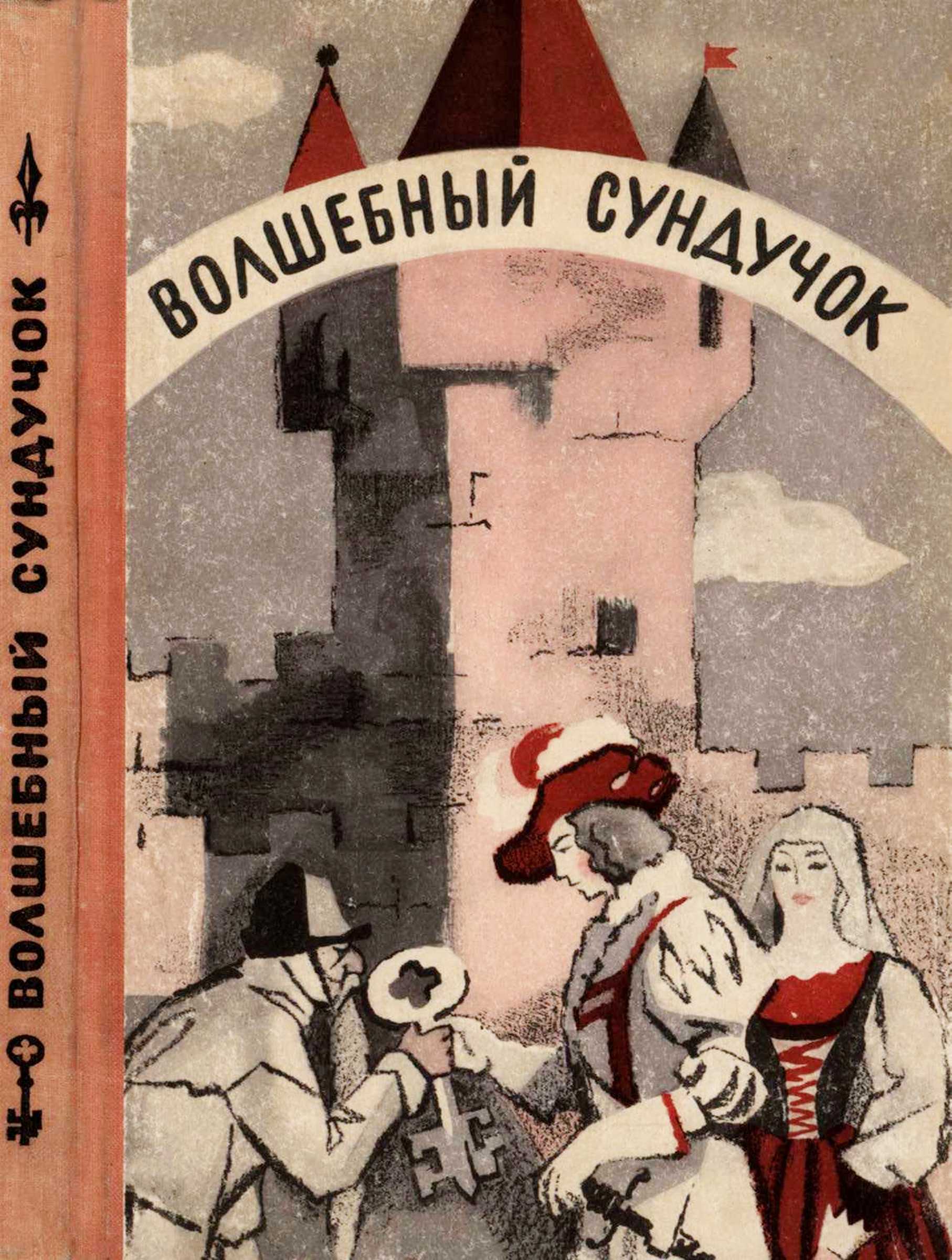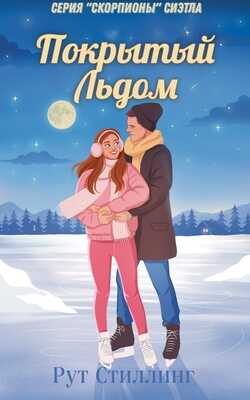Шрифт:
Закладка:
«Надо ему одолжить», — с раскаянием подумал Фридман, но не решился вытащить из кармана монету и двинулся по улице, сам не зная куда. Зельвин пошел следом.
Они прошли мимо кафе. Фридман думал, как отделаться от приятеля, хотя очень ему сочувствовал.
— Нехорошо! Нехорошо! — повторял Зельвин, как заклинание, которое поможет раздобыть нужную сумму.
От его несчастного голоса у Фридмана сердце разрывалось, и он был зол и на себя, и на друга.
— А знаешь что! — вдруг воскликнул Зельвин. — Я к тебе ночевать пойду! Туда нельзя, не пустят…
Фридман видел, что друг смотрит на него с отчаянием, ждет помощи, надеется и не верит. Фридману стало стыдно. Ведь он может спасти Зельвина, если не пожалеет денег, которые, конечно, ему самому очень нужны, и признается, что у него есть рубль. После недолгой внутренней борьбы он уже открыл рот, чтобы сказать: «На, возьми», но мысль, молнией мелькнувшая в голове, удержала его, и он сказал совсем другое:
— Да, конечно, пойдем, переночуешь у меня.
Лицо Зельвина разгладилось, взгляд прояснился, он перевел дух и быстро заговорил:
— Черт его знает, где на жилье денег раздобыть. Что есть нечего, это еще полбеды, хуже, что переночевать негде. С тех пор как в большой город приехал, болтаюсь, как бездомный бродяга, ни кола, ни двора.
Фридман не отвечал. Держа руку в кармане, повторял про себя, что «у него нет», чтобы, забывшись, случайно не проговориться… И когда он прикасался к монете кончиками пальцев, ему казалось, что он трогает какую-то мерзость, которая замарает его на всю жизнь. Он вытащил руку из кармана и решил, что вообще забудет про этот несчастный рубль. Но едва Зельвин снова завел про свою бедность, Фридман, будто издеваясь над самим собой, опять сунул руку в карман и опять подумал, что сейчас забудется, вытащит монету, и Зельвин ее увидит. Он шел и дрожал от страха.
— Вот и пришли! — оглядев комнатушку Фридмана, выдохнул Зельвин.
Он был счастлив, что нашел себе убежище на ближайшую ночь.
— Да, да… — рассеянно согласился Фридман.
Он который раз опустил руку в карман и, не доверяя себе, что сможет удержаться, чтобы не показать монету, потихоньку вытащил ее и в темноте, перед тем как зажечь свечу, наклонился и затолкал рубль в ботинок.
Когда Фридман проделал это, у него будто камень с души свалился. Не будет же он в камаши[72] руки совать, как в карманы. Повеселев, хлопнул друга по плечу:
— Не грусти, Зельвин, все образуется. Будет и на нашей улице праздник!
Зельвин, который давно не слышал от друзей ободряющих слов, гордо выпрямился и начал расхаживать туда-сюда по тесной комнате.
— Поверь, брат, я и не грущу. Деньги — грязь! У нас другие идеалы!
— Конечно! — поддакнул Фридман. — Не в деньгах счастье.
— Все-таки без них не проживешь. — Зельвин вспомнил, что надо платить за квартиру. — Но не это главное.
— Главное — это человек! — с достоинством согласился Фридман. — Мы люди, брат!
Зельвин совсем успокоился. И правда, все не так уж плохо. Он в гостях у доброго, благородного друга, который всегда поймет и поддержит.
Он прилег на узкую кровать Фридмана и задумался. По телу растеклась сладостная истома, он позабыл о просроченной плате, о бедной старухе — хозяйке квартиры, о грязном постельном белье и скрипучей железной кровати в углу у вечно сырой стены. Зельвин чувствовал себя как в детстве, когда приходил домой из хедера.
— Перекусить не хочешь? — спросил Фридман.
— А у тебя есть что-нибудь? — удивился Зельвин.
— От завтрака пара коржиков осталась, а чай и сахар у меня всегда найдутся. Сейчас примус разожгу.
— Да ты буржуй! — добродушно рассмеялся Зельвин Через полчаса, поужинав и налившись чаю, друзья собрались ложиться спать.
Разговаривая с Зельвиным, Фридман снял один ботинок, второй, и вдруг что-то звякнуло о пол.
— Ой, рубль! — радостно крикнул Зельвин.
Фридман вздрогнул и едва не упал.
Увидев его испуг, Зельвин сразу сообразил, что к чему, вспомнил его отказ и опустил глаза…
— Откуда он у меня? — чуть слышно прошептал Фридман.
— Давно завалялся, наверно, — отозвался Зельвин.
— Даже не знаю… — Фридман смотрел на монету и не мог ее поднять.
В тесной комнатушке повисла гнетущая тишина.
— Хе-хе-хе! — Внезапно Зельвин истерично расхохотался, глядя на друга.
— Хе-хе-хе!.. — поддержал его Фридман.
Но в их смехе слышались слезы, лица горели, на щеках выступили багровые пятна.
А рубль — свидетель человеческой ничтожности — лежал на полу, с насмешкой смотрел на хохочущих друзей и будто говорил: «Ага! Это все из-за меня… Все из-за меня…»
1903
Корректор
Уже пять лет, как Борух Бернштейн корректор в варшавской еврейской газете. И он настолько свыкся со своей работой, что иногда ему кажется, будто он родился корректором и всю жизнь только и делает, что исправляет опечатки.
Он очень любит свою работу, всю душу в нее вкладывает. Правда, поначалу, получив оттиск, где в каждом слове было по несколько ошибок, он ужасно злился, просто из себя выходил. «Как можно столько ошибок понаделать? Где их глаза были, о чем они вообще думали?» — ворчал он сердито. Но постепенно привык, можно сказать, это даже стало ему нравиться. Наоборот, оттиск без опечаток стал нагонять на него тоску, чуть ли не страх. Он внимательно изучал строку за строкой, пытаясь отыскать хоть одну опечатку, а то еще скажут, что он не работает… В таких оттисках, где нечего править, от Бернштейна изрядно страдали запятые и тире, которые он менял местами, зная правило из какой-то старой грамматики, что вместо запятой иногда можно поставить тире без ущерба для смысла.
Но такая легкая корректура попадается нечасто. Обычно работа спешная, а ошибок полно, только успевай править, да еще и почерк у хроникера — не дай бог, «Б» от «В» не отличишь, и вместо «быть» в оттиске напечатано «выть». От этой ошибки Бернштейн приходит в восторг:
— Ага, выть… Конечно…
Такие смешные ошибки для Бернштейна чуть ли не единственное развлечение. Еще его веселит перевернутая буква «Ц».
— Бедненькая, с ног на голову тебя поставили, птичка моя, — смеется Бернштейн.
Берет перо, убивает перевернутую букву, крупно выводит на полях другую, как надо, и, уверенный, что наборщик больше ее не перевернет, опять углубляется в работу.
Так он и живет со своими любимыми опечатками в тиши и покое. Лишь изредка, когда поэт Зингерович приносит в газету стишок к празднику, покой нарушается и Бернштейн теряет душевное равновесие. Стихоплет настаивает, что сам будет делать корректуру. Бернштейн выходит из себя.