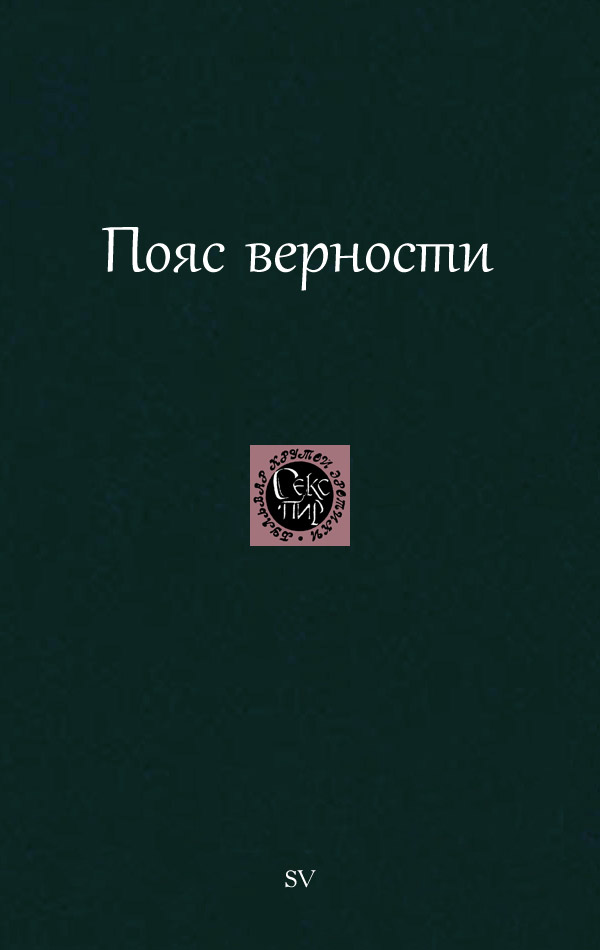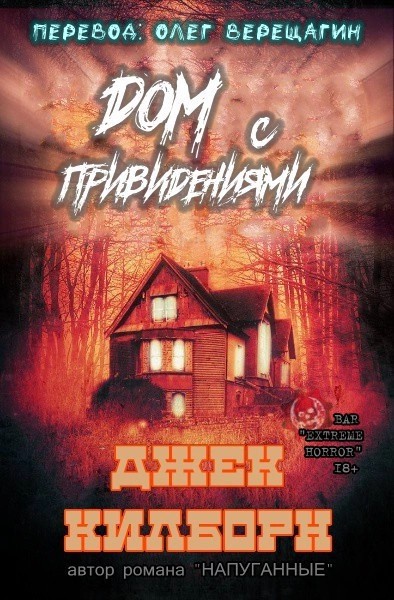Шрифт:
Закладка:
В антиутопии Евгения Рудашевского «Зверь 44» речь идет о безымянной стране, где мирная жизнь превратилась в полузабытое воспоминание, а надежды на событие, которое способно всё перевернуть, практически нет. Разрушенные войной города и смерть стали чем-то обыденным. Одни наступают – другие отступают, а потом они меняются местами. Бивень, Фара, Сивый, Леший, Кирпич, Черпак и другие выполняют свою работу на «Звере». Не самую приятную (да, что уж, тошнотворную), но необходимую.Как пишет сам автор, его герои словно «вырваны из реальности, кем-то придуманы и вынуждены жить в мире его искажённой болью фантазии». Дождутся ли они перемен? Вернутся ли в тот мир, где можно просто жить, любить, чувствовать себя в безопасности?Евгений Рудашевский – автор почти двух десятков книги лауреат многих премий. Его роман «Истукан» стал победителем премии «Книга года-2022», а его подростковые произведения отмечены премиями им. В. П. Крапивина и «Книгуру», входят в каталог выдающихся детских книг мира «Белые вороны» Мюнхенской международной детской библиотеки и переводятся на иностранные языки. Книги писателя отличают не только увлекательные сюжеты и самобытные герои, но и глубокие рассуждения о взрослении, восприятии мира и выборе.