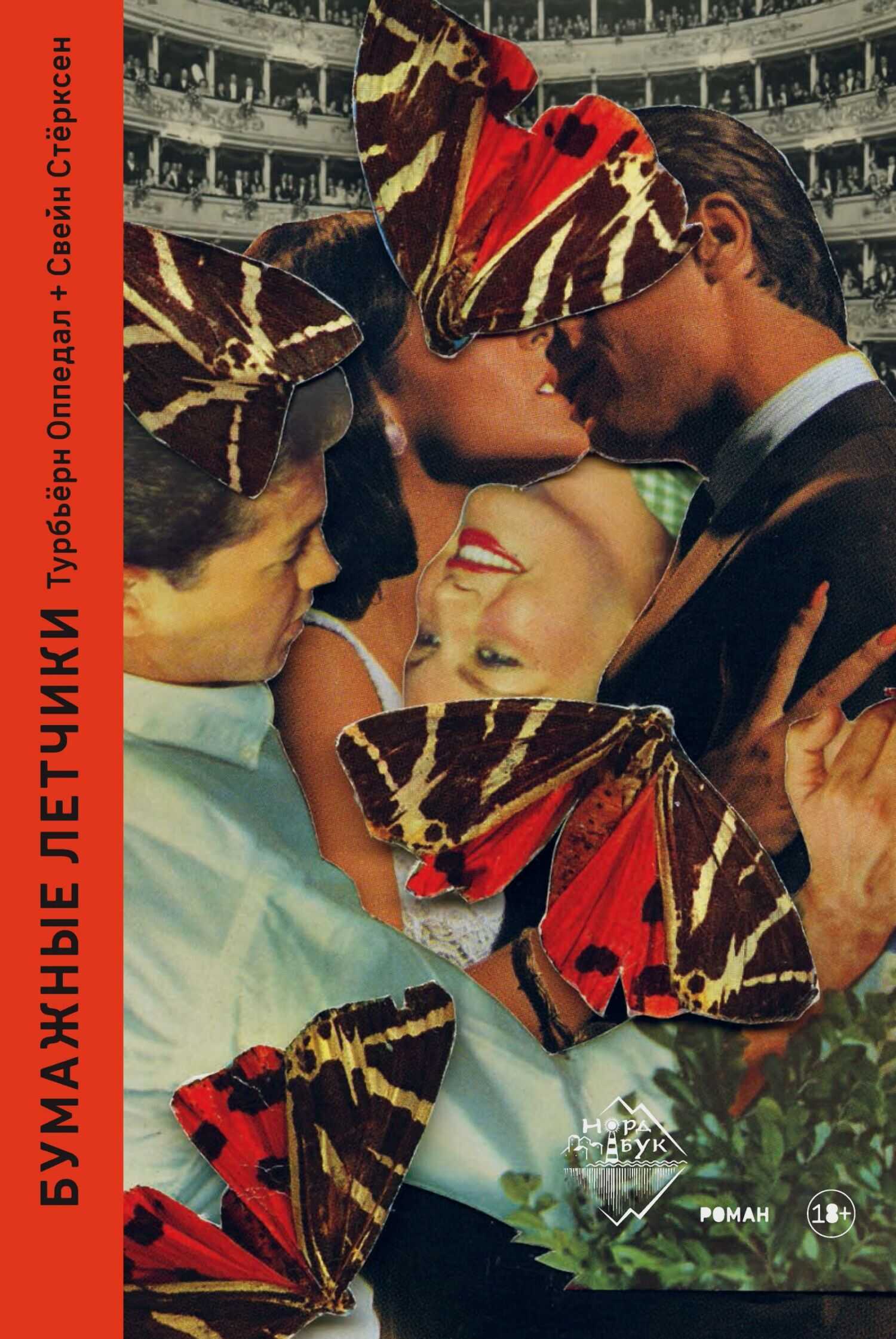Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Самый полный сборник переведённых на русский язык рассказов Рэмси Кэмпбелла.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Рэмси Кэмпбелл»: