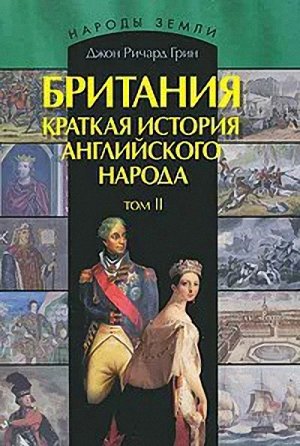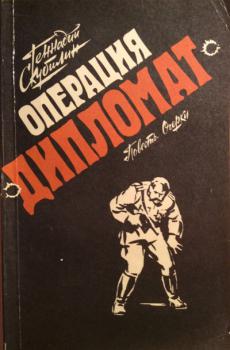Шрифт:
Закладка:
В книге подробно освещается история Венеции начиная с основания города в V веке и обретения уникального статуса одного из самых могущественных городов-государств в мире, сохранявшегося за ним на протяжении более тысячи лет, до падения Венецианской республики от рук Наполеона в 1797 году. Издание снабжено вкладками с великолепными цветными и черно-белыми иллюстрациями. «Из всех городов Италии, еще хранящих былое величие, только Венеция основана и выпестована греками. Не случайно именно здесь находится самая большая в мире византийская церковь, где все еще совершаются христианские богослужения и где господствует патриарх. Даже перестав зависеть от Константинополя, Венеция еще долгое время смотрела на Восток, повернувшись спиной ко всей остальной Италии. Кошмарные хитросплетения средневековой итальянской политики, гвельфы и гибеллины, император и папа, бароны и гражданские общины – до всего этого ей не было дела. И к тому времени, когда она наконец снизошла до создания континентальной торговой империи, характер ее уже полностью сложился по свойственному только ей причудливому образцу. И по сей день Венеция во многом сохраняет тот же облик, в котором она представала миру не только при Каналетто, но и во дни Карпаччо и Джентиле Беллини. Коль скоро речь идет о красивейшем городе мира, это уже не просто феномен, а истинное чудо. Вдобавок это редкостный подарок для историка, помогающий воссоздать гораздо более живую и ясную картину минувших эпох, чем это возможно в любом другом городе Европы». (Джон Джулиус Норвич)