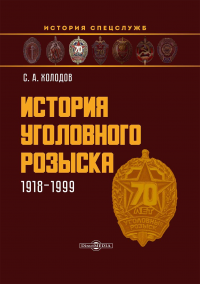Шрифт:
Закладка:
Легендарный детективный тандем Леонов — Макеев. Оказавшись по делам в небольшом провинциальном городке, полковник МВД Лев Гуров становится свидетелем уличного фестиваля граффити. Здесь же присутствует и кумир молодежи художник Аджей Полонский, уроженец этих мест. В разгар праздника от одной из стен с граффити отваливается большой кусок штукатурки, под которой обнаруживается замурованный труп мужчины. Позднее под другими картинами Полонского находят еще два тела. Гуров понимает, что сначала надо найти связь между жертвами и именитым художником, а затем можно будет вычислить преступника. Сыщик и не догадывается, что встреча с этим опасным человеком произойдет на удивление скоро… Николай Леонов, в прошлом следователь МУРа, не понаслышке знал, как раскрываются самые запутанные уголовные дела.
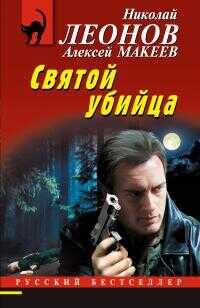



![Жизнь под обрез [сборник] - Николай Иванович Леонов](/uploads/posts/books/16607/16607.jpg)