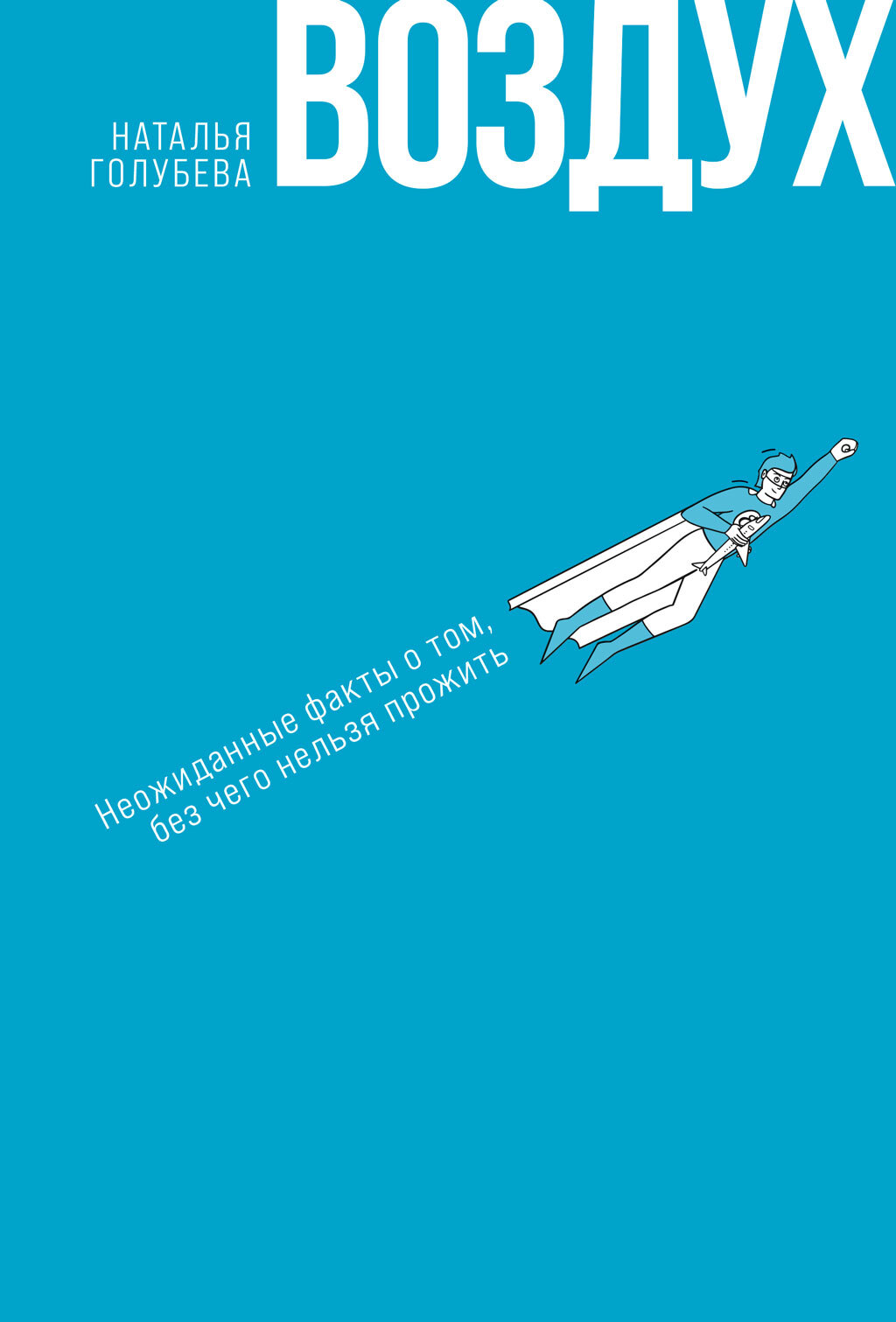Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Бывший белогвардейский офицер Ловенецкий после гражданской войны затаился в Сибири, где намывает золото на заброшенных приисках. Ему очень нужны деньги. Много денег! Месть заставляет его продолжать мучительную, каторжную работу. Он хочет во что бы то ни стало найти медиума Гаевского, который виновен в гибели его отца, матери и сестры. Найти и жестоко отмстить. Он еще не представляет, в какую авантюру ввязывается…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алексей Куксинский»: