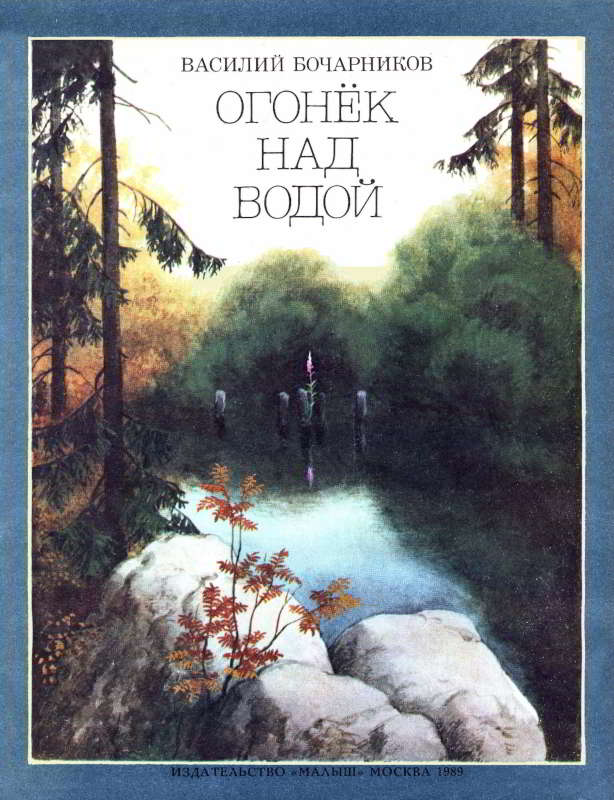Шрифт:
Закладка:
Уильям Сьюард Берроуз – один из самых влиятельных американских прозаиков XX века. Без его книг сложно представить фильмы Дэвида Кроненберга, философские труды Жиля Делёза, песни Дэвида Боуи. Он был союзником битников и покровителем панков, первопроходцем квира и иконой рок-н-ролла, любителем оружия и отчаянным наркозависимым, проповедником свободы и убийцей в бегах. Сложно найти уголки современной культуры, в которых не светятся изотопы его влияния: постмодернизм, киберпанк, трансгуманизм, психоделический рок, индастриал – список можно продолжать бесконечно. «Берроуз, который взорвался» – первая русскоязычная биография застрельщика контркультуры, написанная Дмитрием Хаустовым, автором книг о Чарльзе Буковски, Джордже Оруэлле и бит-поколении.