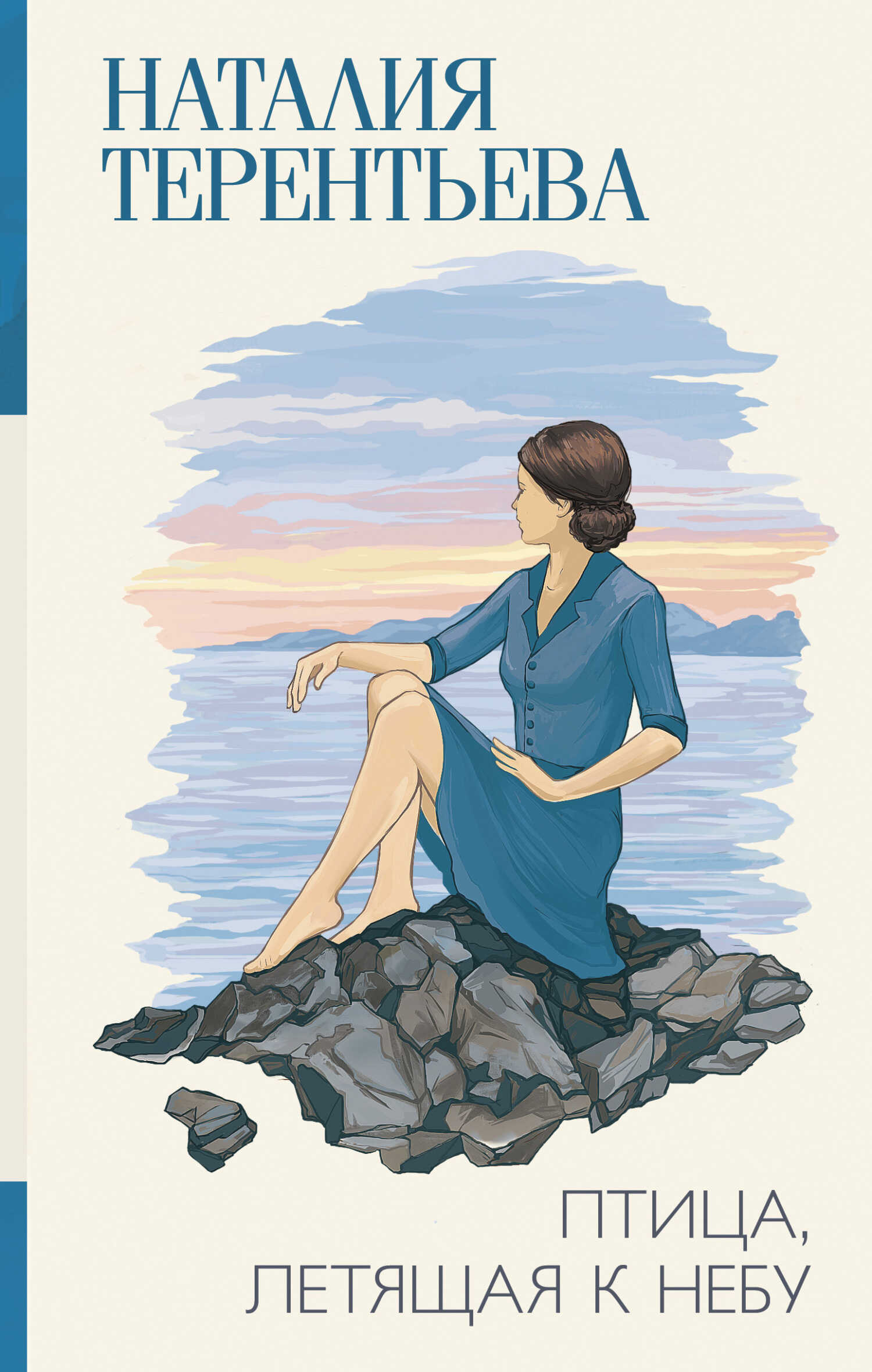Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Хочется жить сегодня и сейчас, хочется верить в любовь, которая не обманет, хочется перестать быть умным проницательным психологом, к которому каждый день идут со своими бедами, страхами, сомнениями люди, и броситься, не раздумывая, в новое огромное чувство, навсегда забыв об одиночестве, о неизжитых детских обидах, о семейной тайне, не дающей покоя уже двадцать лет.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Наталия Михайловна Терентьева»: