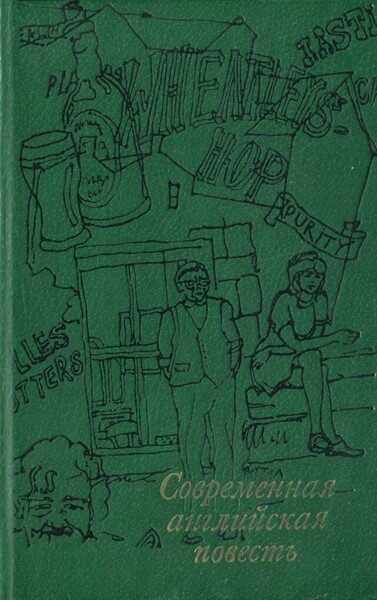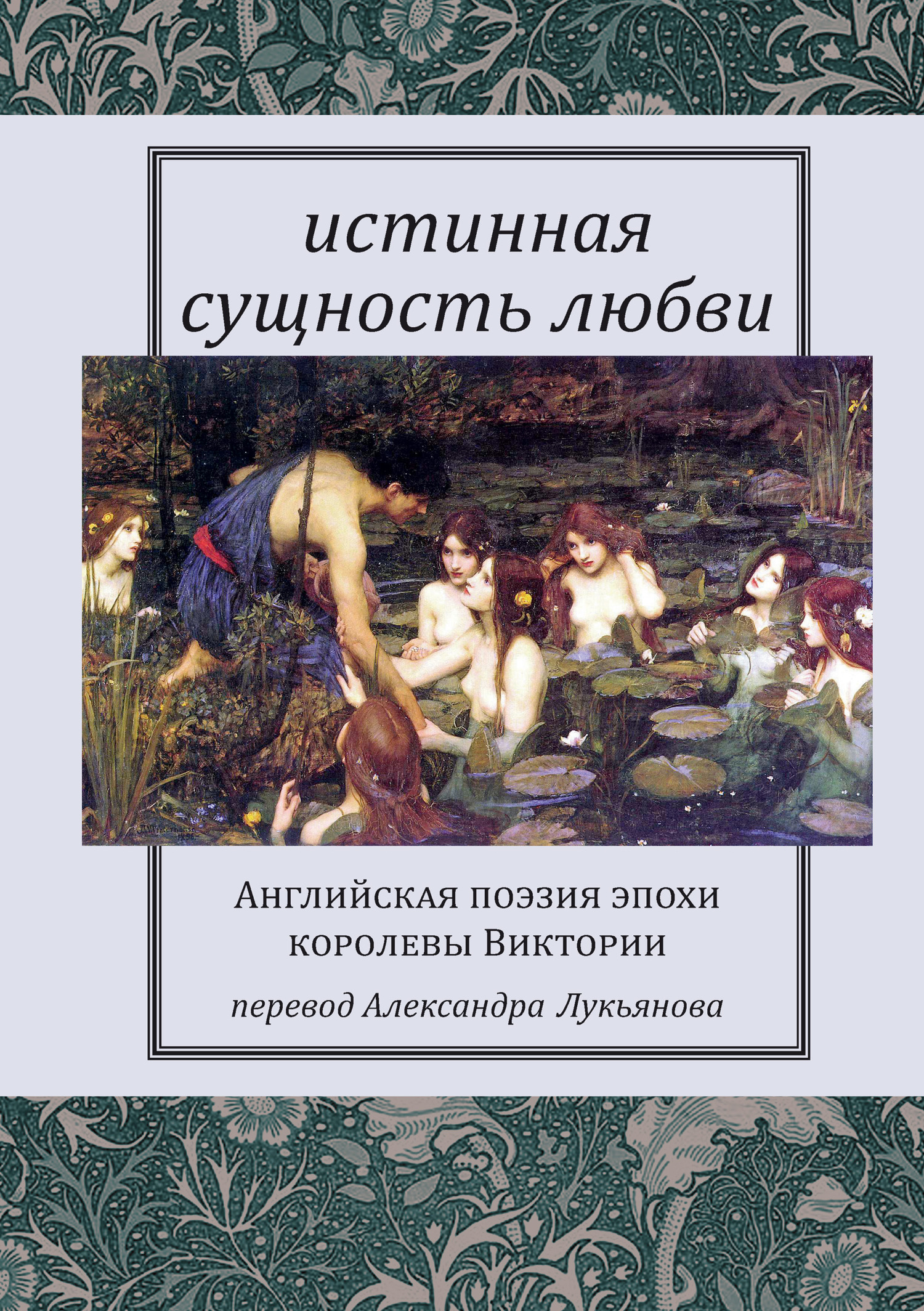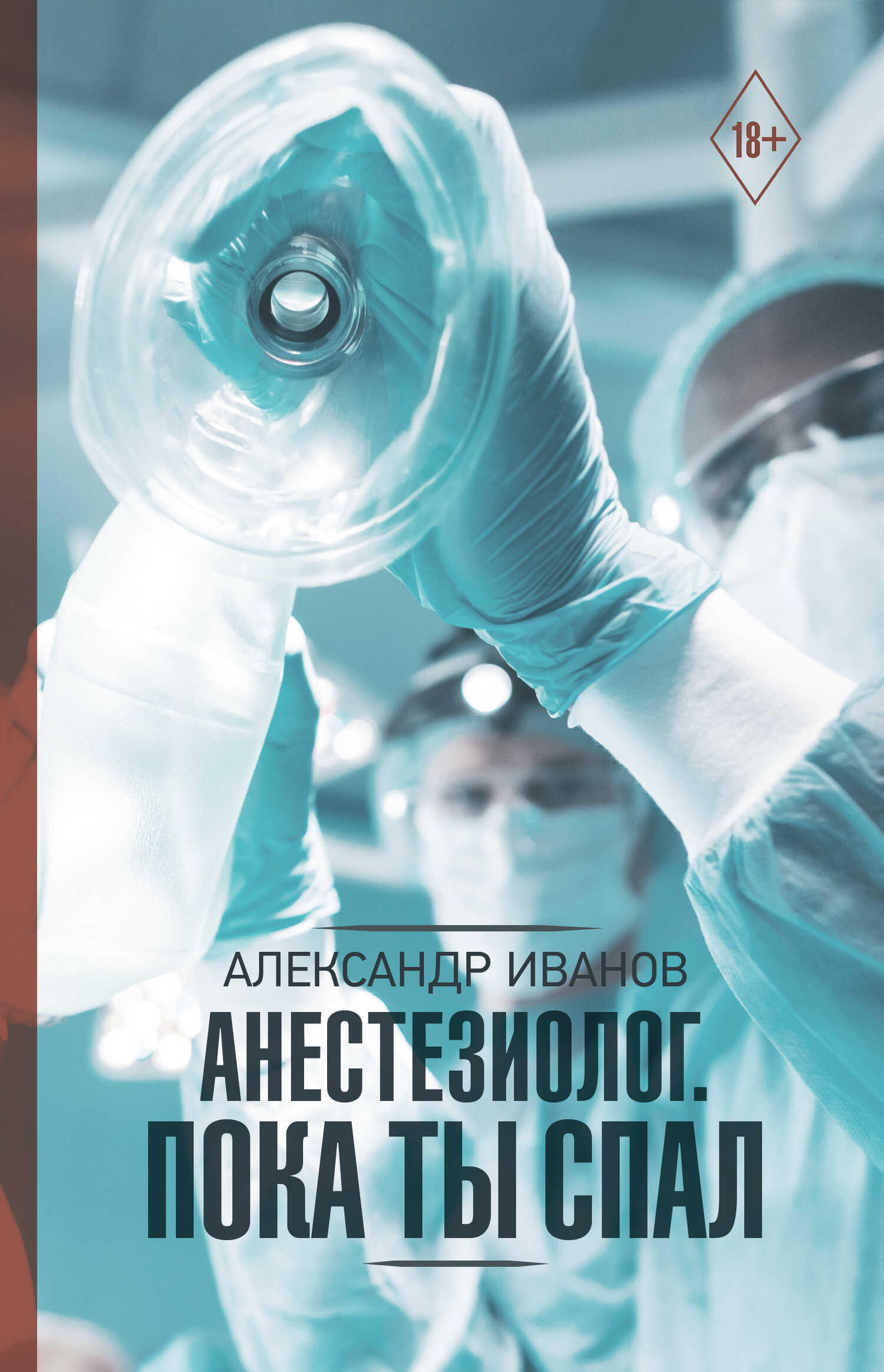Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сборник знакомит с реалистической английской повестью 60-70-х гг. во всем ее жанровом многообразии: повесть бытовая и нравоописательная (С. Барстоу, Г. Э. Бейтс), психологическая (Дж. Уэйн), философская (Дж. Фаулз), сатирическая (Ф. Туохи), повесть — комическая стилизация (У. Голдинг).
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Стэн Барстоу»: