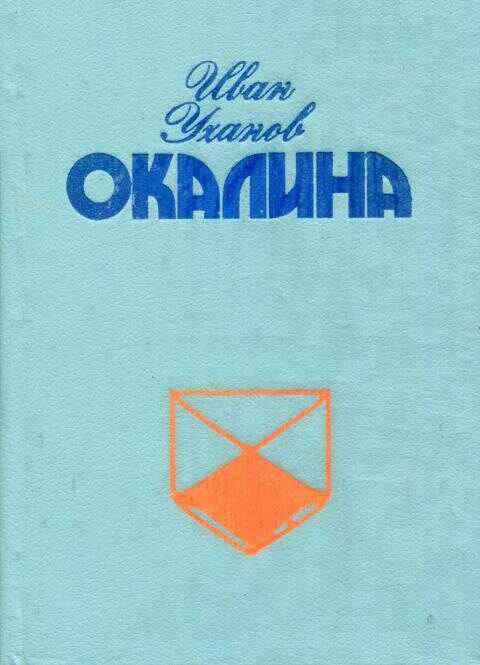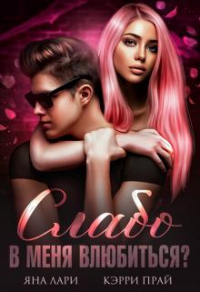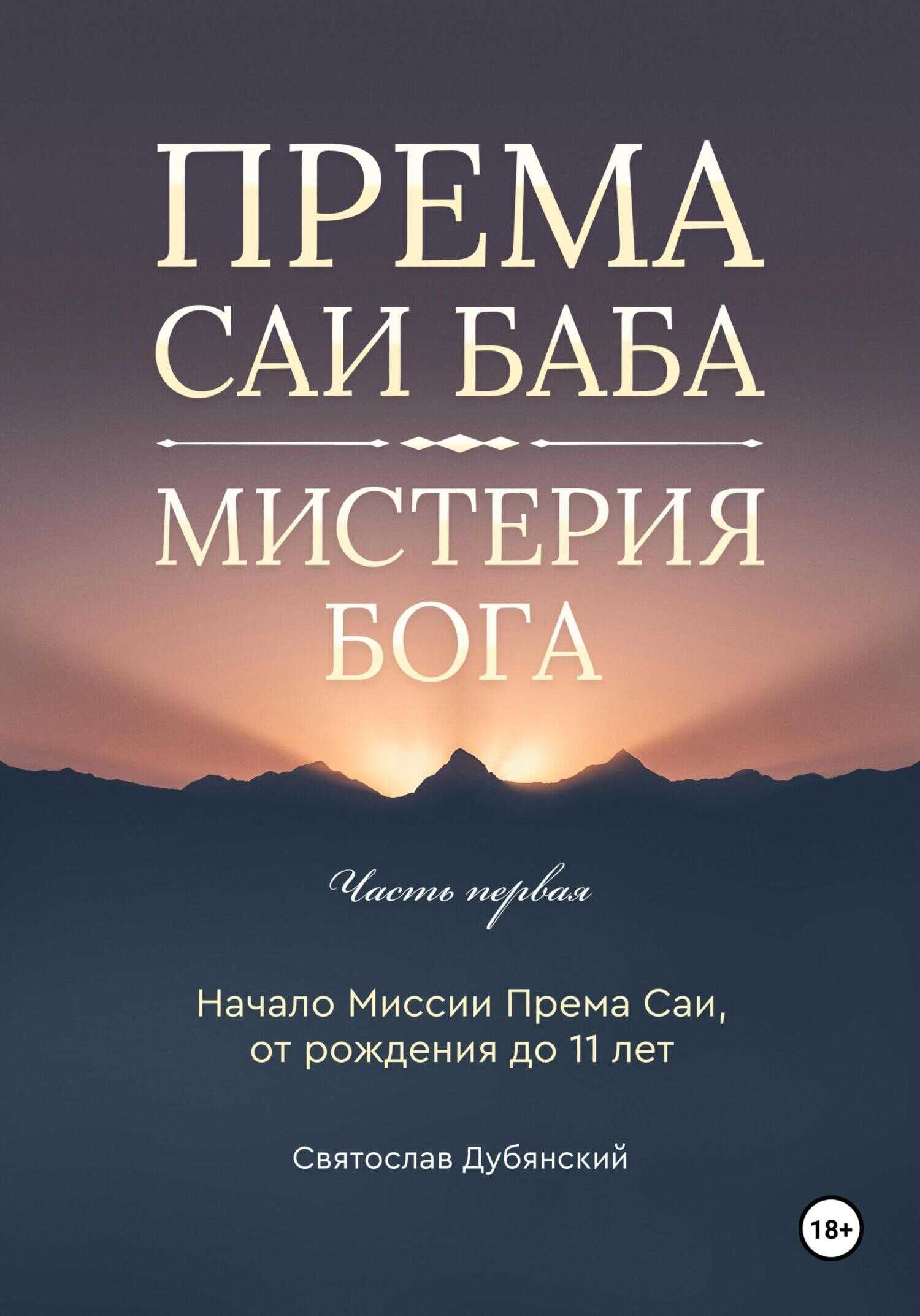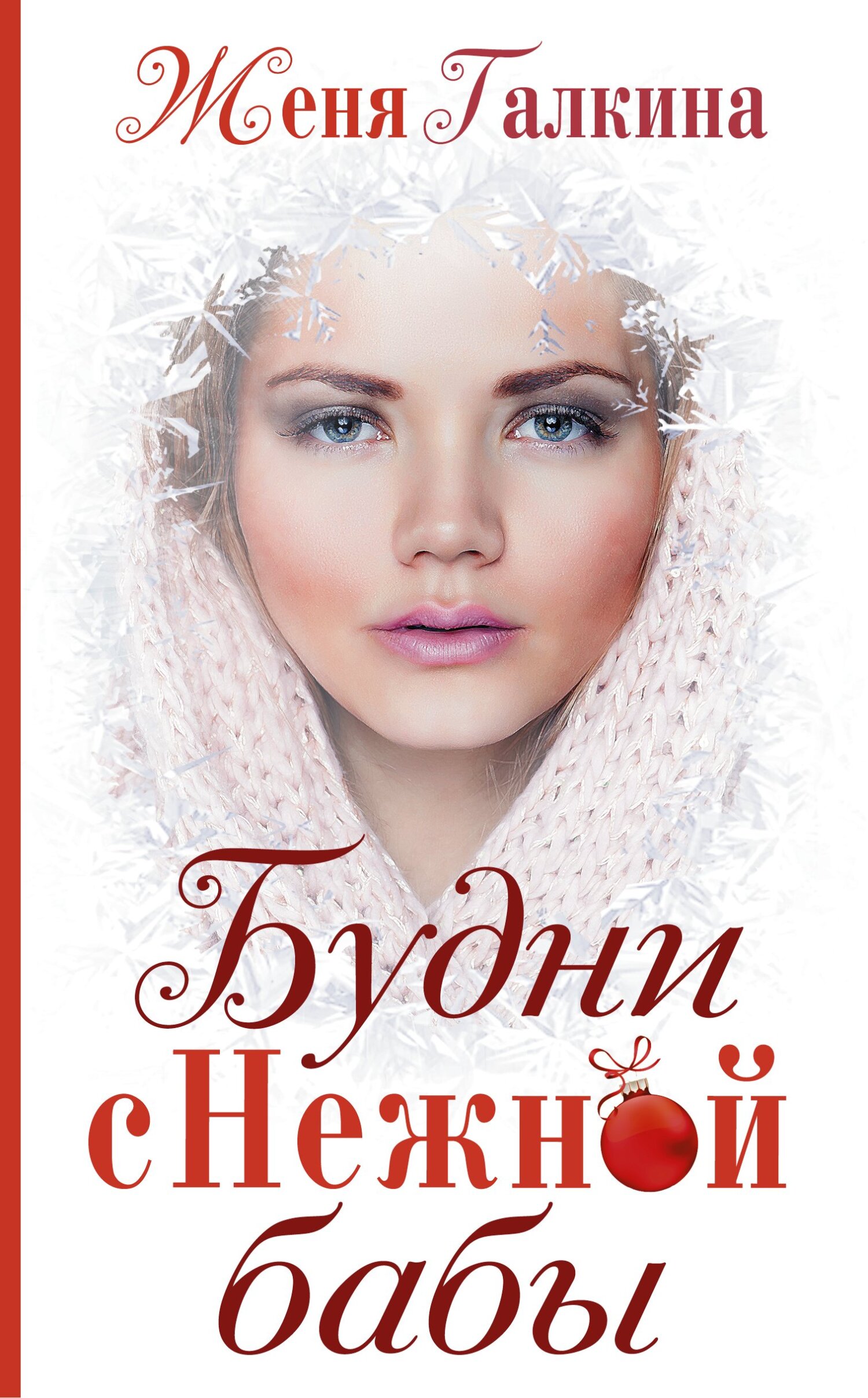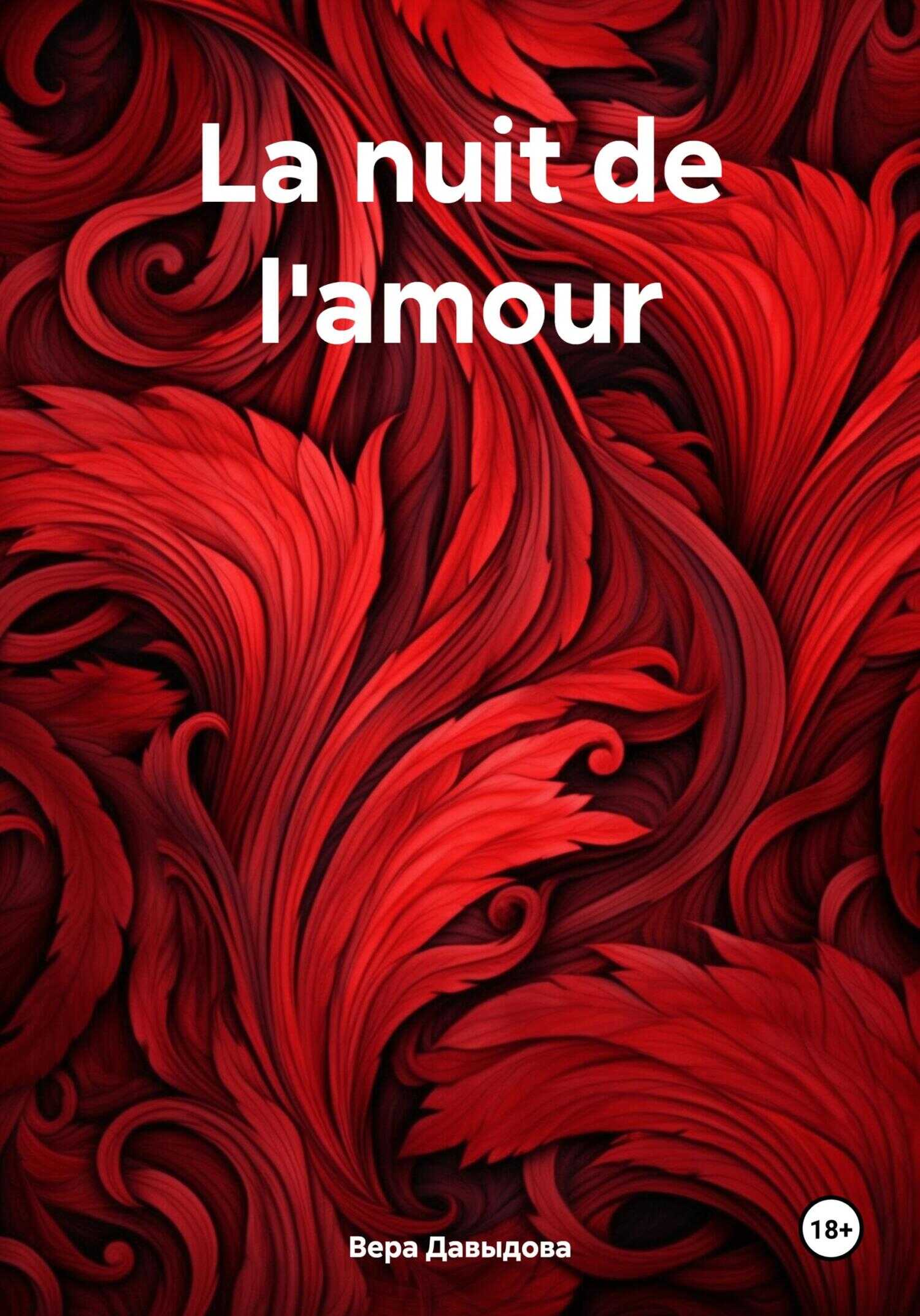Шрифт:
Закладка:
И сейчас Устин печально-виновато глядел на инструмент, будто на развеселый некогда, для всех радостный домишко, ставший теперь по его вине нежилым и заброшенным.
Он снял с гвоздя запыленную гармонь и, улыбаясь, погладил ее по белым пуговкам-ладам. «Совсем отвык… Да и руки у меня теперь, что кувалды. До игры ли? Авось смогу, звук-то я теперь чувствую…»
Хлопнула дверь, в избу вошла Фрося, озабоченно-скорбное лицо ее насторожило Устина. «Опять небось в коровнике наплакалась с бабами — похоронная кому-нибудь пришла», — подумал Устин.
— Отцу плохо. За фельдшером я бегала… Ты бы сходил туда, пока я ужин готовлю, — сказала Фрося, сопроводив слова жестами, видеть которые Устину было совестно и тяжко.
Он отложил гармонь, живо собрался и вышел. Из окон маленького клуба, мимо которого он торопливо шагал, летели девичьи припевки, слабо трынкала балалайка. «Под гармонь у них ловчее пошло бы, — подумал Устин. — Эх, что тут было прежде! А теперь и себе рот завязал, и своей гармони…»
Кузьму Даниловича свалил очередной приступ. Лежал он в светлом углу горницы на высокой чистой кровати. Приход фельдшерицы, должно быть, прогнал его с привычных полатей на эту никем не занимаемую, точно в музее стоящую кровать. Запахи лекарств, оставленные фельдшерицей, обострили в Устине чувство скорби и жалости к отцу. Он подошел к кровати и сел на табурет. Из кухни доносился шум маленького жернова, на котором Варвара молола пшеницу.
— Закрой дверь, Устин. Шумит-то, окаянная! Вот приспичило ей тарахтеть! — визгливо-раздраженно, слабым голосом закричал старик. Варвара вперед Устина подошла к двери и, прежде чем закрыть ее, вскинулась сердито:
— Ну чего ты, Кузя, лаешься? Чего не хватает?
— Ты не нукай. Не запрягла, а нукаешь, — устало огрызнулся Кузьма Данилович и обратил к Устину измученное бескровное лицо за помощью и сочувствием. Болеть старик не хотел, не любил, не умел и теперь видел себя перед всеми виноватым и всех виноватыми перед собой. — Так оно, сынок. Жизнь не в жизнь, а пришибить некому, — сумрачно помолчав, начал он жаловаться и жалеть себя. — Что болит, говоришь? Да все то же… жаба грудная, слышь. От нее и помру скоро, пожалуй. Еще разок эдак надавит… Я тут надысь вымок под дождем, застудился. Склады и коровники по ночам стеречь каково?
Дальше Кузьма Данилович стал спрашивать о детишках, о работе, о всем том, что и без ответов было ему ясно.
— Что молчишь? Иль понову онемел?.. Ты уж не стращай. Тут жаба душит, и то говорю. — Кузьма Данилович сощурил мутноватые глаза, что-то выискивая на строгом лице сына.
— У меня, батя, с-своя жаба… г-гирей д-давит, — нервно зашептал Устин, стукнул себя в грудь кулаком: — Вот т-тут она у меня… к-кровь сосет. Каждый м-момент жизни о ней д-думаю.
Кузьма Данилович хмуро посмотрел на сына, в лице его что-то переменилось, болезненную расслабленность сместила тягостная тревога.
— А ты не думай, — с холодной заботливостью сказал он. — Забудь, отрежь. Вон Агапов Михаил без ноги пришел. Погоревал, покуролесил, да и свыкся. Горюй, не горюй, а новая нога не вырастет.
— Т-так ему без ноги л-легче, ч-чем мне с н-ногами. П-попробовал бы при з-здоровых с-ступнях х-хромать! Это т-тяжельше — себя и л-людей м-морочить.
— Мишка теперь навек калека, а ты… тебе… Ишь ты, в тягость ему месячишко погодить, обождать!.. Радио-то слухаешь? Хорошо да ладно дела на фронтах пошли. Повсюду немца гонют. Уж за границу наши войска зашли. К зиме, можа, и войне конец. И чегой-то ты, как голый в баню, туда норовишь, где и без тебя управляются?
— Я п-по-людски хочу. Как все… п-по совести ч-чтобы…
— А неужель ты без совести?.. Вон Фрося тут намедни плакала из-за тебя. Изломал, грит, совсем угробил себя работой. Иль награду, грит, ему особую какую посулили, аль подряд взял сильно денежный? И не помнит, и не знает ничего, окромя кузницы своей закоптелой! В нем, мол, и прежде была чересчурная охота к работе, но так ухайдакивать себя на казенном дворе только рехнутый может. А он, кажись, в своем уме.
— Да вот, д-думал в р-работе с-спастись… д-да не в-выходит… Это другому к-кому такое по н-нутру, а не мне… Сам ты, б-батя, з-завсегда говорил: в неправде мы, Д-дедушевы, сроду не жили…
— Наладил: правда, кривда, совесть! Да ты на руки свои погляди! — Кузьма Данилович приподнялся на локтях, бородатая голова его слабо затряслась над подушкой. Взглянув на дверь, за которой громыхала ручная мельница, он приглушенно вскрикнул:
— Погляди! Вот она, твоя совесть, вся тута, на ладонях. И пусть кто другой совестится, а твоей совести на пятерых хватит. Да!
Кузьма Данилович откинулся на подушку, чуть погодя устало продолжил:
— Натура у тебя, погляжу, как у моего двоюродного братца. Помнишь Гриньку?.. Дюже переживательный был. Оттого и погорел. А чем виноват, кому не угодил Гриня? Только и делов, что поваренком у беляков сглупа, от голодухи, три недели парнишкой-несмышленышем прослужил. Еще фотокарточка у него в сундуке валялась, на ней он рядом с казаками случайно заснят. Слух об этом был после гражданской, да все уж улеглось. Но Гринька захотел все по правде и совести разъяснить, оскорбление с себя снять. Какой-де он беляк и подкулачник? Да сквозной бедняк он из крестьян, и жил-то так богато, что в одном кармане завсегда пусто, а в другом ничего нет… Однако угодил под горячую руку. Вот и загремел… Сам объяснился-повинился, сам на себя и петлю надел. Оно так: стань овцою — волки сразу найдутся.
В голосе Кузьмы Даниловича заворчала старая обида. Он поморщился от каких-то тяжелых воспоминаний и досадливо-озабоченно глянул на Устина.
— Да, только дурак сам на себя наговаривает, — жестко сказал он, но тут же его лицо расслабилось, в мертвецки запавших глазах блеснули слезы. Старчески подрагивающим голосом он продолжил: — И прошу тебя, сынок, послухай ты меня. Ради Христа, дай помереть спокойно, не рви душу, а посля как хочешь… Но сейчас выкинь из головы дурь, не колупай ты свою совесть, не горячи себя. В душу-то к тебе пока никто не лезет, не заглядывает