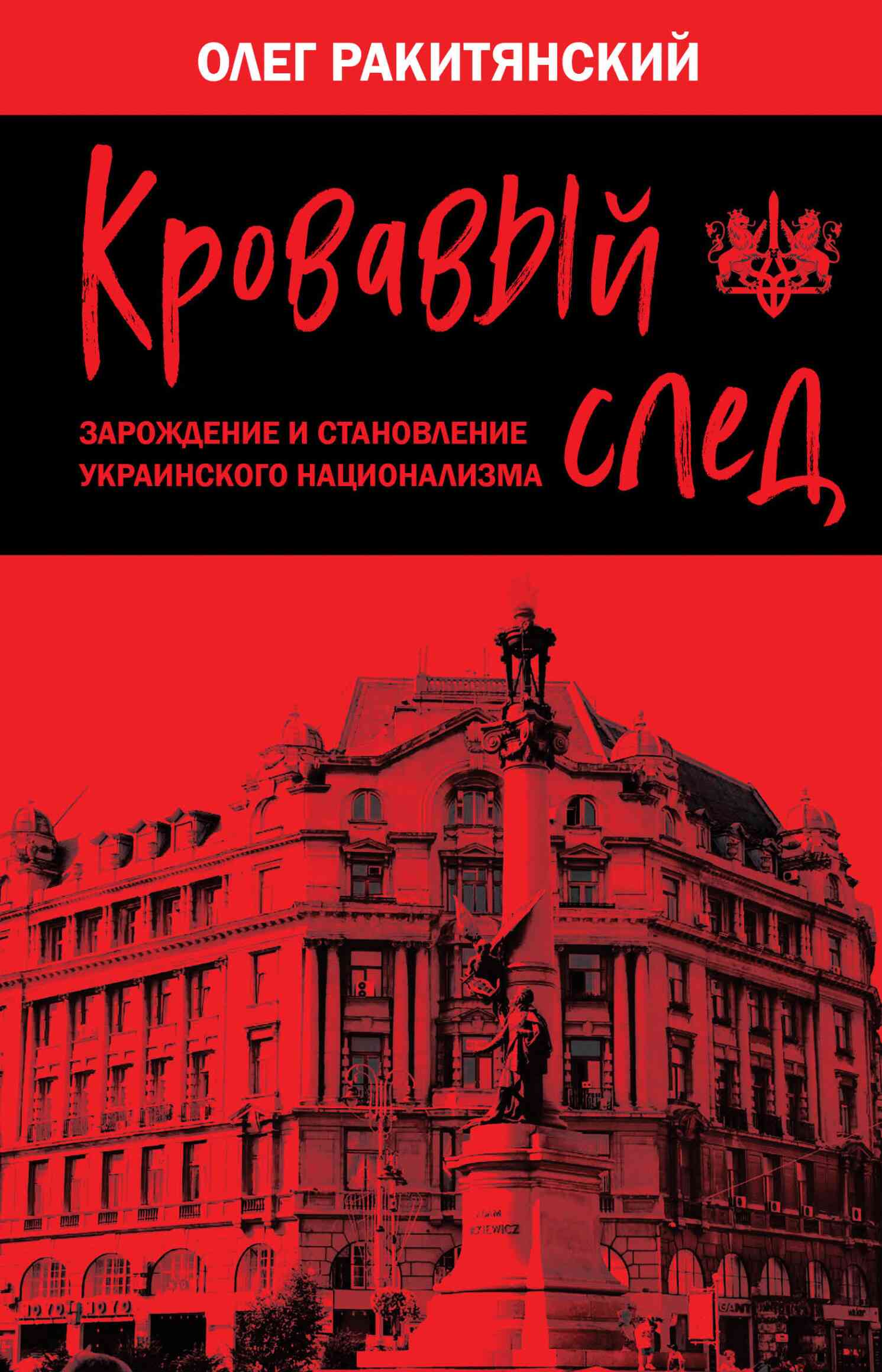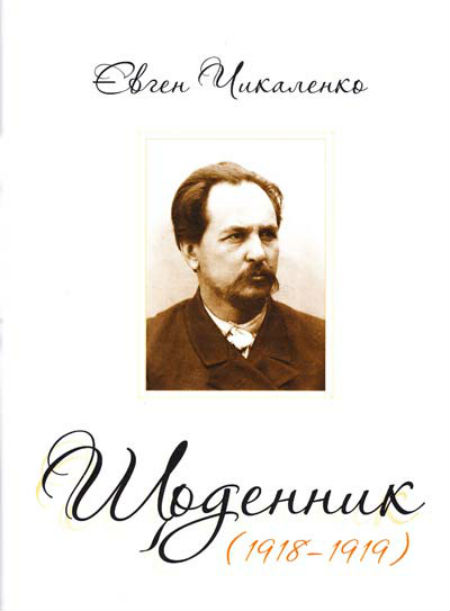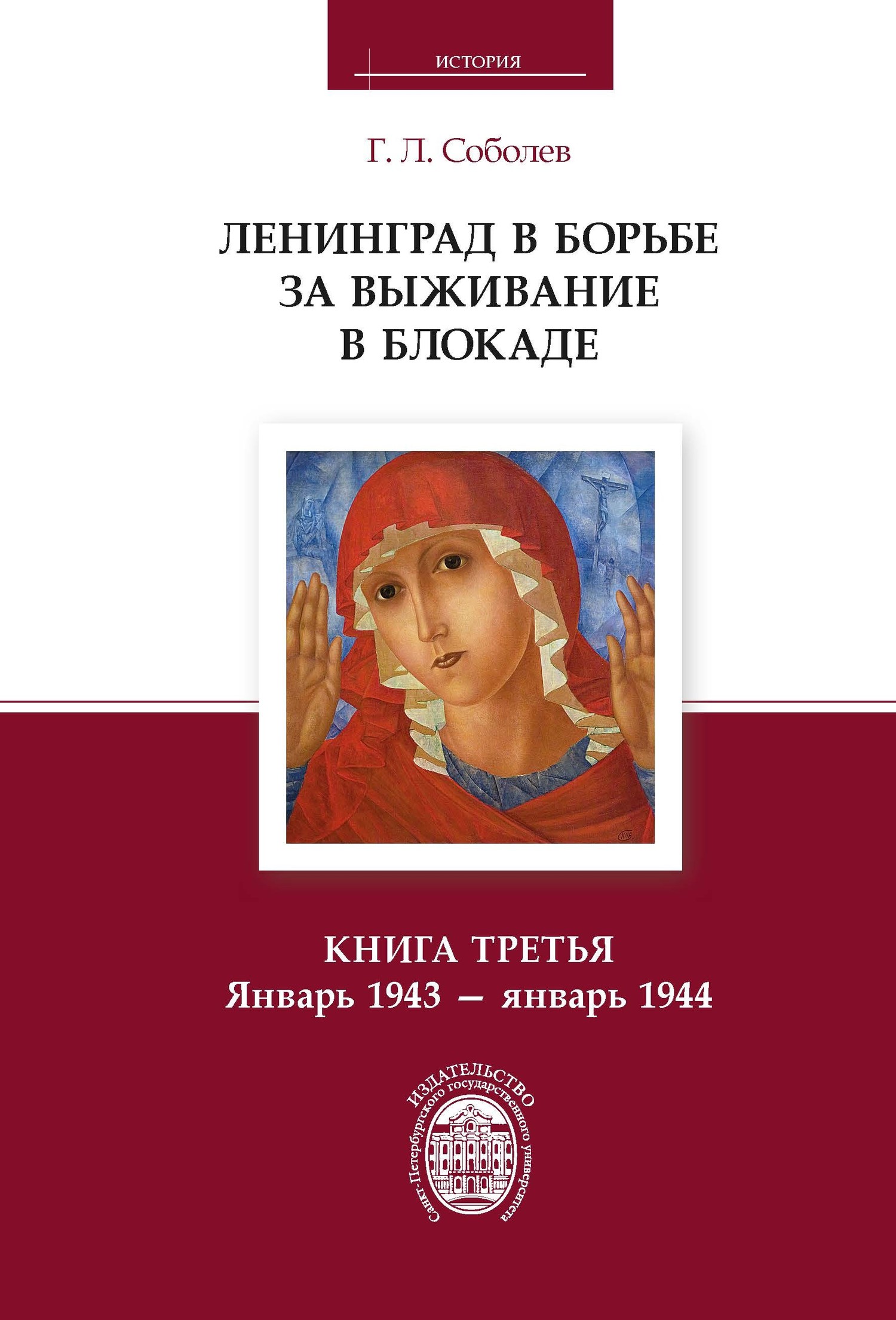Шрифт:
Закладка:
В данном сборнике рассмотрены вот уже более полувека замалчиваемые проблемы, касающиеся одного из наиболее шокирующих событий Второй мировой войны — массового убийства формированиями ОУН-УПА и дивизии СС «Галичина» польского, еврейского, армянского и украинского гражданского населения на территории юго-восточного пограничья Польши. В данной работе исследователи из Польши, Украины и России пытаются найти ответ на самый основной из всех вопросов: почему? Почему случился этот геноцид? Почему он отличался столь поразительной жестокостью? Почему, наконец, совершившие все эти злодеяния, в большинстве своем избежали какого бы то ни было наказания, а многие из них после Второй мировой войны получили материальную помощь и политическую поддержку западных держав?
Обложка - Польская семья Ясенчуков из Воли Островецкой (ныне несуществующее село, Любомльский р-н, Волынская обл.), фото межвоенного периода. Все они погибли в 1943 г. www.polradio.pl